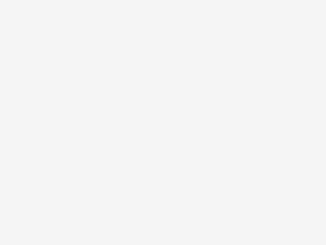«Вы были хорошим сержантом, и мы об этом говорили, а теперь вы стали плохим сержантом, и мы не скрываем этого, – продолжал отчитывать меня командир роты капитан Глаголев. – Устроили, понимаете, в каптерке сборище непонятных субъектов, которым место на гауптвахте, а не в кладовой! Каждый день гитара, чаечки, картишки-шахматишки, а в роте бардак. Мне начинает надоедать эта порнография! Так вот, если я еще раз увижу в кладовой посторонних лиц или шайку более трех человек, то вы у меня станете ефрейтором советской армии! Понятно вам, товарищ сержант?»
«Вы были хорошим сержантом, и мы об этом говорили, а теперь вы стали плохим сержантом, и мы не скрываем этого, – продолжал отчитывать меня командир роты капитан Глаголев. – Устроили, понимаете, в каптерке сборище непонятных субъектов, которым место на гауптвахте, а не в кладовой! Каждый день гитара, чаечки, картишки-шахматишки, а в роте бардак. Мне начинает надоедать эта порнография! Так вот, если я еще раз увижу в кладовой посторонних лиц или шайку более трех человек, то вы у меня станете ефрейтором советской армии! Понятно вам, товарищ сержант?»
Я стоял, глядя на зеленую стену позади капитана, делал серьезное лицо и огромным усилием воли сдерживал смех, который готов был вырваться наружу. «Понятно или непонятно?!» – угрожающе переспросил он. «Так точно, понятно, товарищ капитан». «А Русинова, – не унимался ротный, – к кладовой не подпускать на пушечный выстрел. Я ему устрою досрочную демобилизацию! Все эти музыкальные штучки отставить, иначе я об ваши головы разобью эту чертову гитару!» Сердце мое при этих словах сжалось. Мою гитару, мою милую крошку, разбить? Ни-ког-да! «В кладовой после отбоя не должно быть никого, кроме вас, и все эти «пришел взять то, пришел взять се» меня не волнуют. Делаю вам самое последнее, двести тридцать шестое китайское предупреждение. Больше у нас с вами разговора об этом не будет!»
Капитан ушел, оставив после себя оторванные от шкафа доски, выпотрошенные вещмешки, высыпанное на пол содержимое выдвижных ящиков от столов и скверное настроение. Я присел на табурет, прижался спиной к батарее и размечтался о дембеле, до которого оставалось 4 месяца.
Очнулся я от стука в дверь. «Открывай, свои», – раздался голос Шуры, того самого Шуры, отличника боевой и политической подготовки, которого на пушечный выстрел не велено было подпускать к каптерке. «Свои дома сидят, телевизор смотрят», – крикнул я в ответ и пошел открывать. Замерзший и румяный Шура зашел и принес с собой запах улицы, снега и приближающейся весны.
«Дверь захлопни, – сказал я, – а то чего доброго снова патрон нагрянет, будет мне тогда он него «хенде хох». Совсем офицерский состав озверел. Весь день мозги парят. Хоть бы кто слово доброе сказал. Уже не знаю, куда от них спрятаться. Надо бы в санчасть на недельку залечь, отдохнуть хорошенько, выспаться.
«Мой шеф тоже сегодня не в духе, – пожаловался Шура, снимая бушлат, – но я сбежал от него. И фотографии из города опять не привез, собака дикая. Знал же я, дурак, кому доверить». Шурин начальник уже три месяца обещал ему забрать его цветные фотографии из фотоателье маленького военного городка Капустин Яр.
Шура обогрелся, выпил чашку чая, снял со стены гитару, которую я когда то привез из отпуска, сел на табурет и стал наигрывать мелодии и ритмы зарубежной эстрады. «Варвара жарит ку-у-у-у-р», – выводил Шура песню БониМ, впившись взглядом в пальцы левой руки, которые должны были брать непослушные аккорды. Пальцы сопротивлялись и никак не хотели прижимать нужные струны. Струны в свою очередь больно впивались в пальцы, напоминая о том, что они тоже не лыком шиты.
Ну а теперь я, пожалуй, расскажу, как началось Шурино музыкальное увлечение. Вот уже почти два года мы с Шурой служим вместе в ракетных войсках стратегического назначения в воинской части, затерянной в унылых волгоградских степях. Служим операторами телеметрических станций, а числимся электриками- дизелистами для пущей секретности. Повар у нас, должно быть, числится дворником, а дворник – маляром. Время на службе тянется долго, один день похож на другой, и в перерывах между марш-бросками, стрельбами, уборками территории и работой с телеметрией каждому просто необходимо чем-то заниматься, чтобы окончательно не сойти с ума. Стройбатовцы курят, нюхают краску и почем зря убивают друг друга лопатами; автомобилисты гоняют в соседние деревни за водкой и по бабам, железнодорожники достраивают БАМ, связисты слушают Маяк, я выпускаю ротную стенгазету и играю в армейском клубном ансамбле на неподъемной бас-гитаре марки «Урал», только у бедного Шуры нет никакого дельного хобби. А без хобби в армии не жизнь, а каторга. В армии обязательно надо хобби иметь.
В конце концов Шура дошел до ручки. Однажды после политзанятий сказал мне тихим, проникновенным голосом, каким обычно открывают самые страшные тайны: «Юрик, а что если и я научусь на гитаре играть? А? Дембель ведь не за горами. Буду гитаристом, тогда все девчонки точно будут мои, верно?»
Сначала я воспринял этот лепет безразлично. Думал, это он от холода завыл или съел чего-нибудь. Думал, это само пройдет. Но не прошло, и тогда я решил попробовать.
Шура оказался способным и настойчивым учеником. Первой его песней, над которой он работал пять дней, а на шестой сыграл, была песня Б.Г. «Старик Козлодоев» из к/ф «Асса». Знали бы вы, чего мне это стоило! Сначала бедолага пытался косить левым глазом на левую руку, а правым – на правую, чтобы получше контролировать непослушные конечности. Кончилось бы это приобретенным косоглазием, если бы я не сказал другу, что контролировать надо пока только левую, а правой надо доверять так. У Шуры возникала масса вопросов, и я неустанно отвечал на них, но на каждый мой ответ он задавал два новых. Я запасся терпением и мило улыбался ему, даже когда все внутри меня кипело.
Вот я сейчас пишу, а он снова рядом сидит и уже совсем неплохо играет и поет песню группы «Ласковый май» «Белые Розы». Он уже научился играть пару песен группы «Наутилус» и «Кино», и битловскую «Can’t buy me love». Английским Шура не владеет и просто поет: «Кинь бабе ло-ом, еврибади телс ми со». Некоторые песни крепко засели в моих мозгах именно благодаря Шуре.
Мне даже иногда снились кошмары. Снилось мне, что вокруг меня толпы одинаковых Шур с гитарами, и все они вопросительно буравят меня сотнями глаз. Мало того, они преследуют меня и пристают с вопросами, сливающимися в неразличимый гомон, от которого казалось лопнут перепонки. Я пытался убежать от них по какой-то дороге с металлическими барьерами и толстыми металлическими проводами над головой. Я бежал и с ужасом осознавал, что бегу я по гиганскому грифу гитары. Добежав до конца, я срывался вниз и летел в пропасть.
Или вот еще лучше сон. Сидим мы с Шурой в каптерке, чай пьем, за жизнь разговариваем, тишиной и спокойствием наслаждаемся, и вдруг страшный стук в дверь. Мы замираем в страхе. Удар, дверь слетает с петель, и мы видим стоящего на пороге капитана Глаголева. Глаза его сверкают недобрым огнем из-под полей фетровой шляпы а-ля Фредди Крюгер. «Мне надоела эта порнография, – рычит он, брызгая слюной. – Я покончу с вами!!!!» Мы цепенеем от ужаса и видим, как он надевает на руку кожаную перчатку с металлическими когтями, лицо его превращается в злобную гримасу, и он неотвратимо приближается к нам, все выше занося свою руку для удара. Мы падаем со стульев и кричим от ужаса, но почему-то не можем слышать свой крик. Очень мило, не правда ли? Но искусство требует жертв, и если я когда-нибудь сойду с ума или стану ефрейтором, то я точно буду знать, чья я жертва.
Шура сказал мне однажды, что до дембеля не успеет научиться. «Хоть оставайся дальше служить!» – досадовал он мне как-то у костра на засыпаном снегом стрельбище. «Ничего, – уверял я его, стряхивая снег с автомата. – Ты способный, научишься. Все будет хоккейно!»
Вот Шура поставил гитару в угол, и мы с ним сели пить чай. Шура в эту ночь был дежурным по роте. Ответственный офицер ушел в штаб играть в нарды с дежурным по части, так что беспокоиться было не о чем. За окном шел снег. Шура закурил и пальцем на запотевшем стекле нарисовал цифру 34 – количество дней, оставшихся до приказа. Это было хорошее число. Какая-то радость овладела мной, и на одном дыхании я набросал в блокноте весеннее стихотворение.
Снег почернел и осел.
Оттепель, капает с крыш.
Это конец зимних дел,
Это прекрасно, малыш.
Солнце уже на посту,
В небе, что снов голубей.
Слышится мне за версту
Радостный крик голубей.
Кажется так далеко
Лето, что жарче песка.
Где ж ты моя Сулико?
Радость моя и тоска.
Шура сказал, что стишок хороший, и его надо непременно послать в журнал «Смена» на конкурс, потому что там печатают вещи намного хуже. «Я со своей девчонкой порвал, – сказал он мне. – Или она со мной? Без рюмки не разберешься. Грустно, конечно, но не смертельно. Кто знает, как оно там все будет, дома? Чем ближе дембель, тем отчетливее мысль, – а что дальше? Учиться пойдем, а там видно будет».
Шура опять взял гитару. «Покажи мне какой-нибудь шлягер?» – попросил он. Я задумался, перебирая в голове возможные варианты, но ничего не мог придумать. Дело в том, что я никогда не пел шлягеры – эти прилипчивые мотивчики с бессмысленными текстами. Если все будут их петь, то не во что будет верить. «Если тебя не стошнит, то могу сыграть «Яблоки на снегу», – осторожно предложил я. «Во-во, то что надо», – обрадовался он. Я стал играть, а Шура внимательно следил за моей левой рукой. «Понял?» – спросил я. «Конечно, – ответил он. – Дай я попробую».
 Шура стал разучивать песню, а я сел за стол и стал составлять наряды на следующий день. Людей в роте осталось всего – ничего, и я долго обдумывал каждую кандидатуру. Когда мне надоело выполнять свои служебные обязанности, я взял у Шуры гитару и запел песню группы «Чайф», что на прошлой неделе показывали в телепередаче «Взгляд». За окошком, в свете раскачивающегося фонаря, падал белый, пушистый снежок, один из последних в этом году и, может быть, последний зимний. Через неделю наступит весна. Наша весна. Этой весной все мы разъедемся по своим городам, институтам, университетам и снова станем веселыми, беззаботными студентами. Будем изучать науки, иностранные языки, гулять, веселиться, влюбляться и наслаждаться свободной жизнью.
Шура стал разучивать песню, а я сел за стол и стал составлять наряды на следующий день. Людей в роте осталось всего – ничего, и я долго обдумывал каждую кандидатуру. Когда мне надоело выполнять свои служебные обязанности, я взял у Шуры гитару и запел песню группы «Чайф», что на прошлой неделе показывали в телепередаче «Взгляд». За окошком, в свете раскачивающегося фонаря, падал белый, пушистый снежок, один из последних в этом году и, может быть, последний зимний. Через неделю наступит весна. Наша весна. Этой весной все мы разъедемся по своим городам, институтам, университетам и снова станем веселыми, беззаботными студентами. Будем изучать науки, иностранные языки, гулять, веселиться, влюбляться и наслаждаться свободной жизнью.
Шура добил «Белые розы», сел в раскрытый шкаф и через минуту заснул сладким невинным сном младшего сержанта. Я закончил составлять наряды, нарисовал спящего Шуру и пошел командовать ротой. Когда я вернулся, друг мой все также сладко спал в шкафу, и ему, наверно, снилась гитара.
22 февраля 1987