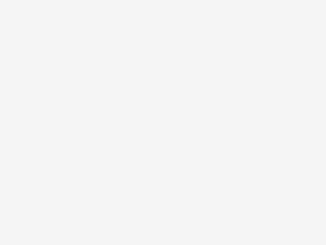Не секрет, что мир переполнен всякого рода историями о чудесах, казусах и невероятных ситуациях, происходящих в канун больших праздников. Здесь и фольклорные видения, и религиозная мистика, и шекспировские страсти, и гоголевская чертовщина… Все рационально необъяснимое вдруг свивается в клубок и актуализируется в ирониях случаев и судеб. Не поэтому ли мы все с упоением воспринимаем рязановский фильм и просматриваем его каждую новогоднюю ночь, хотя и знаем чуть ли не наизусть? История, которую мне хочется рассказать, не исключение. Она могла произойти только в предпраздничную пору и только таким образом, как произошла.
Не секрет, что мир переполнен всякого рода историями о чудесах, казусах и невероятных ситуациях, происходящих в канун больших праздников. Здесь и фольклорные видения, и религиозная мистика, и шекспировские страсти, и гоголевская чертовщина… Все рационально необъяснимое вдруг свивается в клубок и актуализируется в ирониях случаев и судеб. Не поэтому ли мы все с упоением воспринимаем рязановский фильм и просматриваем его каждую новогоднюю ночь, хотя и знаем чуть ли не наизусть? История, которую мне хочется рассказать, не исключение. Она могла произойти только в предпраздничную пору и только таким образом, как произошла.
Дело было давненько, в городе-герое Киеве, в восьмидесятых, в общежитии КИИГА (Киевского института инженеров гражданской авиации), ковавшего соответствующие кадры как для Страны Советов, так и для тех зарубежных регионов, которым страна считала своим долгом вовсю советовать. В истории задействованы Африка, в лице кенийского студента Барри Бена, Вьетнам, в лице группы северовьетнамских сердобольных студентов, Украина, в лице совсем не сердобольного шофера институтского рафика Саши, крепко пьющего киевского жителя и замдекана по работе с иностранцами.
На город надвигался Новый год. Деканаты по делам иностранных студентов были охвачены заботами по организации всевозможных торжеств, вечеров интернациональной дружбы, конкурсов талантов и всякого рода предпраздничной лихорадкой, целью которой было продемонстрировать студентам дружественных территорий оптимизм советского народа и преимущества советского Нового года в «одной, отдельно взятой, стране».
Каждое иностранное землячество имело свою специфику задействования в нашей бывшей жизни, в ее праздниках и буднях. Деканов по иностранцам не волновало, как развлечь кубинцев: они сами развлекут кого угодно, и себя, и девчонок, и дам бальзаковского возраста. Не представляло труда веселить африканцев: они скупали шампанское, кадрили «бэлых дэвушек» и буйно радовались ранее не виданному снегу. Афганцы упивались чаями, объедались пловом и шехерезадствовали перед своими украинскими любовницами о роскоши жизни на мусульманском востоке.
С вьетнамцами все было сложнее. Они вживались в русский язык, в общежитейский быт, в жизнь в достаточно холодной Украине значительно медленнее, чем все остальные студенты-иностранцы (речь идет о студентах подфака сентябрьско-октябрьского заезда, проживших в Киеве к тому времени около двух-трех месяцев). Разумеется, играли свою роль и особенности национального характера, где всегда педалировались скромность, сдержанность в выражении эмоций, тихая речь и общее спокойствие облика. Не представлялось им возможным просто так, беззастенчиво, пристать на улице к смазливой украиночке, зазвать ее в «обсцезитие» (кто работал в СССР с вьетнамцами, знает, как они заменяют Ж, Ч, Ш, Щ на З, Ц, С в своей русской речи на начальном этапе), напоить, накормить … Да и одежка (а по одежке ой как встречали!) заставляла желать лучшего. Спасали разве что гонконговские джинсята, одни на все землячество, и шелковые рубашечки, достаточно элегантные для Киева той поры.
Одним словом, когда в деканат по иностранцам поступали заявки от предприятий и учебных заведений на подгон иностранных студентов на вечера интернациональной дружбы, деканы, предполагающие послать на мероприятие вьетнамцев, направленно инструктировали заявителей: «И скажите там вашим активисткам-интернационалисткам, чтобы был постоянный белый танец! Наши вьетнамцы очень застенчивые и скорее удавятся, чем сами пригласят девчонку. Так что чтобы все было тип-топ!»
Именно такая ситуация сложилась в один прекрасный предновогодний четверг, когда меня, в ту пору преподававшую почасово русский как иностранный на подфаке в КИИГА, и мою коллегу Марину вызвал к себе замдекана по иностранцам и приказал везти следующим вечером, в пятницу, группу в составе восьми вьетнамцев на вечер в строительно-монтажное управление, известное в микрорайоне как передовое, перевыполнившее предновогодние соцобязательства СМУ №15.
– Там все в курсах, – сказал начальственный замдекана, – девки моют шеи под глубокий вырез и будут звать вьетнамцев в пляс. Ваша задача – присматривать, чтобы наши мужики-передовики не напоили их. Даю Сашу и рафик для транспортировки вас и контингента в Дом культуры СМУ. Сделать и доложить!» Замдекана был сыном военного и выпускником РКИ (русский язык как иностранный), поэтому стремился к образной и краткой речи.
У нас же с Мариной была перегажена пятница, предполагался перенос свиданий и маячила тоска обязаловки на вечере с вьетнамцами и строителями-передовиками. А кроме того – и это было самым противным – вечер надлежало провести в форме преподавательского состава Института инженеров гражданской авиации, незатейливо сшитой в местном ведомственном ателье. «Выйдешь тут замуж,- шипела Марина, покидая замдеканский кабинет, – разве что за маляра-штукатура! И почему всегда мы и всегда в пятницу?! Черт бы их побрал с их интернационализмом и высокими показателями!» Маринин кавалер был курсантом артиллерийского училища и в ту памятную пятницу получил долгожданное увольнение. Её можно было понять.
Не буду долго останавливаться на описании вечера дружбы. Его форма соответствовала содержанию. «Девуски» из СМУ №15 весь вечер дружили с вьетнамцами, а вьетнамцы – с «девусками». Кавалеры, танцуя в паре на пионерском расстоянии от женского пола, заливались краской, когда этот пол слегка касался пышными украинскими грудями худосочного вьетнамского тела. Все было чинно-благородно, тем более что руководство СМУ позаботилось о присутствии в интерьере танцевального зала не только портретов Маркса-Энгельса-Ленина, но и дюжих ребят с красными повязками добровольных народных дружинников. Выведя на улицу опьяневших от близости женщин вьетнамцев, разбудив задремавшего водителя Сашу, мы радостно умостились в рафике, чтобы проследовать до иститутской общаги и, наконец, разбежаться на выходные. Но тут-то, хотя поручик Ржевский и не приехал, все началось.
Позади водителя, на сиденьи слева, сидело незнакомое лицо явно не иностранного происхождения и мурлыкало какую-то расхожую песенку. Это очень понравилось нашим возбужденным студентам, и они сначала что-то весело залопотали на своем птичьем языке, а потом принялись практиковаться с незнакомцем по-русски. Мы с Мариной сидели позади всех, и до нас долетали затренированные до чертиков вопросы: «Как Вас зовут? Где «зивёт» твоя семья? «Сколко» тебе лет?» Ответов было не разобрать, но каждый издаваемый незнакомцем звук вызывал у вьетнамцев приливы восторга и веры в возможность овладения этим жутким русским языком, где на каждое правило есть исключение. Они радостно взвизгивали и продолжали приставать со своими примитивными вопросами.
– Сашка решил подзаработать и взял левака, – прошептала Марина, – это только мы пашем ни за шиш в пятницу вечером, а пролетариат своего не упустит! – Её не отпускала обида по поводу несостоявшегося свидания.
У корпуса институтского общежития Саша выпустил из рафика вьетнамцев, галантно, что не вязалось с пролетарскими привычками, помог выбраться нам с Мариной и на вопрос о незнакомом пассажире непринужденно ответил, что «этот алкаш» перепутал его рафик с рейсовым автобусом, забрался в него, когда Саша задремал, и теперь придется подбросить его до ближайшей станции метро. «Да вы не переживайте, – сказал беспечальный Саша, – я с ним разберусь!» Марина ринулась в ближайшую телефонную будку звонить своему курсанту, а я поплелась к остановке скоростного трамвая.
Понедельник, как известно, день тяжелый. Мы все явились на работу, чтобы сеять пред иностранным контингентом разумное, доброе и – как-то это всегда вызывало сомнение – вечное.
В момент, когда я зашла в свою аудиторию, за мной тяжело захлопнулась дверь, и моему и вьетнамским взорам предстал величественный замдекана по делам иностраных студентов. Он был великолепен: в форме командира корабля, к статусу которого приравнивались замдеканские лычки, с лицом, излучающим суровый оптимизм, со страстью уверенного в своей правоте функционера. Володя (не хочу называть фамилии) произнес: «Товарищи вьетнамские студенты! Два дня назад – Володя показал 2 пальца – у вас в общежитии был пьяный (он искренне замялся)… советский человек. Как он туда попал?!!»
Володино недоумение зижделось на том факте, что как в учебные корпуса института, так и в общежития было не попасть без студенческого пропуска, а особенно поздним вечером: КИИГА был полувоенной организацией и имел соответствующие ведомственные правила. Лица со стороны должны быть заявлены заранее, внесены в соответствующий вахтерский список и только тогда получали право входа в здания.
Позволю себе, однако, заметить, что эти строгости каким-то непостижимым образом не распространялись на местных шлюх, ударявших по иностранцам, которые проникали в общаги в любое время дня и ночи, оставляя на пропускниках паспорта, комсомольские билеты, а иной раз просто бутылку для строгих вахтеров. Вполне возможно, что девочки также работали на КГБ, поскольку студенты-иностранцы менялись (выпускались, переводились в другие вузы, отчислялись), а девочки были всё те же. Со стороны же русских кафедр к ним было вполне доброжелательное отношение, поскольку они ночью восполняли те языковые пробелы, которые преподавателям было не покрыть днем.
Вернемся же к Володе и к нашим с Мариной студентам. Услышав заданный вопрос, вьетнамцы затрепетали. Было физически ощутимо, как их прохватил страх. Они перепуганно затрещали на своем коротком, почти междометном языке, замахали руками, заёрзали на стульях, а в аудиторию уже входила Марина и – к счастью – переводчица Лена, полиглотка и вундеркиндша, владевшая, несмотря на весьма юный возраст, несколькими сложнейшими языками, в том числе и вьетнамским. К светлой голове Лены прилагалась ещё и редкой сексуальности фигура, где хрупкий торс плавно переходим в завидной пушистости бедра и полные аппетитные ножки. Все это венчал нежный волоокий взгляд и томная, как бы усталая манера общения. Вьетнамцы считали её кем-то вроде святой.
Лена внимательно выслушала взволнованные объяснения старосты группы, пожала плечами и принялась бесстрастно рассказывать Володе, что произошло после нашего с Мариной расставания с вьетнамцами в пятницу вечером.
Как только мы исчезли из поля зрения, гуманист Саша вытащил своего незапланированного пассажира из рафика, выбросил в снег и уехал. Вьетнамцы пришли в ужас. Их культура вообще не допускает ситуацию, когда человека оставляют на улице. После недолгого совещания о правилах входа в общежитие вьетнамцы сняли с одного из своих КИИГАковскую шинель, завернули в нее алкаша, положили сверху раздетого до кителя вьетнамца, приказав ему прикинуться пьяным, и мирно проследовали с ношей мимо строгого вахтера к себе на этаж.
Их никто не тронул, поскольку по негласным законам высшей школы Страны Советов студентов-аборигенов за пьянку следовало сдавать в вытрезвитель и отчислять, а иностранцев тихо-тихо доставлять в общежития и давать проспаться, так как страна усиленно заботилась о своем международном престиже и не хотела международных скандалов. Ректора институтов, где учились иностранные контингенты, свято следовали этим неписанным законам и соответствующим образом инструктировали всех работников. Проспавшийся и отрезвевший иностранный студент поутру спокойно отправлялся на занятия, а ректор не имел головной боли с горкомом партии и Советом по делам иностранных студентов города. Но это если « в Багдаде все спокойно». Наш случай не таков.
Узнав от Лены, как пьянчужка попал в общагу, и на секунду отечески улыбнувшись вьетнамскому спикеру (дескать, верной дорогой идёте, товарищи), Володя снова принял партийно-начальственный облик и задал совершенно абсурдный для всех нас вопрос: «А как он попал в Африку? В общагу – понятно, в как тогда в Африку?..»
Более идиотского вопроса нельзя было себе представить. Какая еще Африка?! При чем здесь Африка? Услужливая филологическая память тут же подогнала мыслишку: «Не нужен нам берег турецкий, И Африка нам не нужна!» Но Володя сверлил взглядом вьетнамцев, и Лене пришлось задать им своим эротическим голосом тот же безумный вопрос. Вьетнамцы снова все зачирикали, и в их нестройном хоре частотным повтором зазвучало имя «Барри Бен», «Барри Бен», «Барри Бен». А это обещало очень многое.
Кенийский студент Барри Бен был, подобно гоголевскому Ноздрёву, человек исторический. С тем только различием, что он, в основном, не попадал в истории, а сам их создавал и очень любил в них участвовать. Сын богатого кенийского папы, Бен, тем не менее, не желал жить спокойной и скучной жизнью человека своего круга. Деньги – они и в Африке деньги, но его с детства заворожило небо, и он мечтал стать пилотом. В институте инженеров гражданской авиации его интересовал только подфак и русский язык, а все дальнейшие планы были связаны с летным училищем. К моменту появления в Киеве Бен свободно говорим по-английски, по-французски и по-португальски, владел несколькими африканскими племенными диалектами, хорошо разбирался в математике и механике. Русский язык его не пугал, и уже через несколько недель он вполне сносно говорил и писал по-русски и пел почти что без акцента подхалимски-популярную среди прокоммунистически настроенных иностранцев песню «Мой адрес не дом и не улица, Мой адрес Советский Союз».
Высокий, красивый и общительный, бабник и весельчак, Бен всем нравился и со всеми находился на дружеской ноге. Он обожал подвохи и каверзы. Пару раз в неделю, раздевшись догола, Бен вылезал на карниз общежитейского окна своей комнаты и гортанным африканским голосом вопил на всю улицу: «Анжелика! Анжелика, я хочу тебя!», чем приводил в негодование, а, может, и в восхищение, всех наблюдавших это зрелище. Парадоксально было то, что никакую Анжелику он не хотел и не звал, а просто куражился над ханжескими чувствами жителей институтских окрестностей. Володя по секрету рассказывал нам, как на Бена пришли жаловаться несколько местных матрон, причитавших, что за день до этого они видели из окна, как голый Бен взывал к Анжелике целых двадцать минут, и не знали, куда деваться от стыда. На что ехидный замдекана спросил нравственных женщин: «А зачем же вы столько времени смотрели? Закрыли бы окна, да и пошли себе по делам».
Когда Бена охватывала тоска по родной Кении, он закупал шампанское, приглашал к себе девушек легкого поведения, просил потанцевать для него на столе нагишом, а сам при этом плакал, бил в бубен, пел свои национальные песни и писал маме в Африку письма в стихах по-французски. С ним ничего нельзя было сделать, на него не распространялись никакие правила проживания в общежитии, он здоровался за руку с грозным парторгом института, умел делать преданное лицо, на торжественных собраниях читал напамять евтушенковское «Хотят ли русские войны» и делал все, что приходило в голову. К нему благоволил сам всесильный ректор, его любили все без исключения студенты, обожали девчонки и продавщицы ликероводочных отделов. Единственным способом для дежурного по общежитию преподавателя прекратить беновскую шумную ностальгию было поскрестись в дверь его комнаты и вежливо попросить выставить девок, мотивируя это возможными неприятностями для самого преподавателя. Язык силы Бен не понимал. Он любил людей и каждый день до начала занятий начинал с того, что обходил комнаты всех наций и народов иностранной общаги и здоровался со всеми на их родном языке. Бена почти боготворили.
В тот вечер, когда «пьяный советский человек» оказался нелегально внесенным вьетнамцами в ведомственный «гуртожиток» ( по-украински – «общежитие», то есть место, где все проживают «гуртом», “all together”), во вьетнамских комнатах не было свободных коек, и поэтому алкаша пришлось поместить на вакантную кровать в комнату студентов из Гвинеи Биссау, где он благополучно проспал мертвым сном всю ночь в обществе двух чернокожих студентов.
Взволнованные вьетнамцы наперебой повествовали едва успевавшей их переводить Лене, как сильно они за пьянчугу «перезивали», как пытались щупать его пульс, как привели вездесушего Барри Бена посмотреть на неожиданного гостя, и даже тыкали пальцами в текст учебника русского языка на тему «В госпитале», где имелась фраза: «Он мог потерять сознание»…
Утром следующего дня сердобольные вьетнамцы явились в гвинейскую комнату, чтобы оставить для пьяницы свежеотваренный рис и «цай», и вслед за ними примчался Бен пожелать ему по-русски доброго утра. Алкаш к тому времени проснулся и затравлено озирал черные лица своих соседей. В ответ на беновское русское приветствие он тихо выдавил из себя: «Где я?..» и тут же получил либо весёлый эскпромт, либо коварно подготовленную шуточку: «В Африке!» От Бена можно было ожидать чего угодно…
Протрезвев в долю секунды, пьянчуга взревел благим матом, кинулся к Бену и к гвинейцам, потер и даже поскреб их физиономии и вылетел из комнаты. Визжа и стеная, кометой пронесся по коридору и выскочил из общаги. Заканчивая свой рассказ, один из вьетнамцев вдруг зачем-то сказал по-русски: «Он крицал, крицал! Он забиль свою сапку…». Забытая шапка казалась, наверное, вьетнамскому мальчику подтверждением полнейшего потрясения советского человека.
Одурев от услышанного и отсмеявшись во всё горло, Володя поведал мне, Марине и Лене, а через Лену – сердобольным вьетнамцам, что, оказавшись на улице, алкаш тут же радостно сдался первому попавшемуся белому милиционеру (а милицейских постов у иностранных общежитий было всегда навалом) и поставил его в известность, что прошлой ночью какие-то черные суки противозаконно свозили его в Африку. Мент, конечно, усомнился в правдивости рассказа, но, не будучи гигантом мысли и находясь «при сполнении», взял все на карандаш. А в понедельник рано-рано позвонил в институт проректору по иностранцам с требованием разобраться, как советский гражданин мог ночью оказаться в Африке насильно и без визы. Проректор спустил информацию к замдекану Володе, а тот уже должен был произвести своё расследование.
Комментарии, как говорится, излишни, кроме единственного. Когда мы с Мариной засветили эту сумасшедшую историю нашей заведующей кафедрой, женщине административной, но лирической, она задумчиво произнесла: «Вот бы моему Эдику такую Африку… Может, бы пить перестал?..»