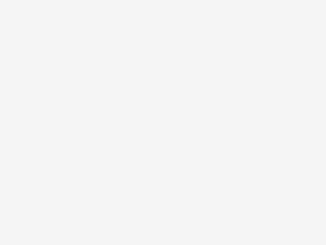– Потому что это ты и есть…
– Я?!
– Это твое отражение. На себя смотреть никому не хочется.
(Диана Виньковецкая. «Америка, Россия и я». «Эрмитаж», 1993 год).
 О русской комьюнити писать опасно. Во-первых, о ней уже многое написано, а во-вторых, заранее знаешь, что в любом случае не согласятся и осудят. Ну что, скажите на милость, можно добавить к тонким наблюдениям покойного Сергея Довлатова?..
О русской комьюнити писать опасно. Во-первых, о ней уже многое написано, а во-вторых, заранее знаешь, что в любом случае не согласятся и осудят. Ну что, скажите на милость, можно добавить к тонким наблюдениям покойного Сергея Довлатова?..
А если уж мы затронули классиков, то оставим век двадцатый и припомним пушкинского героя-эмигранта графа Нулина («Святую Русь бранит, дивится, Как можно жить в ее снегах. Жалеет о Париже – страх»), или же интеллектуальных помещиков, разгуливавших по Европе с выражением лица, которое менялось в долю секунды от надменно-снисходительного до рабски-перепуганного, о чем не без ехидства писал другой русский классик, Тургенев.
Русская диаспора за рубежом существует уже много веков. Эдуард Радзинский не случайно считает первым русским диссидентом и эмигрантом князя Курбского, бежавшего от произвола Ивана Грозного к полякам и наивно посылавшего ему оттуда умные письма о том, как перестроить Россию. Пушкин же, любимая героиня которого Татьяна – типично «русская душою», хотя и выражавшаяся «…с трудом на языке своем родном», по меткому выражению Александра Гениса, вообще был первый писатель-отказник.
Но время идет, виден кое-какой прогресс – Солженицыну, например, повезло уже больше, чем Курбскому: после долгой эмиграции ему позволили въехать в Россию на белом коне; правда, обустраивать горячо любимую Родину по его рекомендациям никто не собирался.
Как известно, история повторяется. Один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. И вот уже в откровенном признании (в эфире одного из телемостов с Россией) Березовский рядится в одежды Герцена и считает, что бьет в колокол своими неслабыми капиталами. Другими словами, история русской эмиграции есть сложившаяся данность, исчисляемая не четырьмя пресловутыми волнами, как утверждают на сайте Гарвардского университета американские ученые-слависты, а, как минимум, пятью веками (если вести отсчет от Курбского).
Поначалу русские селились исключительно в Европе, потом освоили Китай, затем нашли себя в Америке. Но где бы они ни жили, они никогда, с одной стороны, в полной мере не ассимилировались, а, с другой стороны, в отличие от иных эмигрантов, никогда не составляли крепкую общественную субстанцию, обозначаемую непереводимым словом «комьюнити».
В разговорах, тем не менее, постоянно звучит: «Русская комьюнити, русская комьюнити…» Люди упорно апеллируют к тому, чего не существует в реальности. У нас нет комьюнити в классическом политологическом понимании этого слова. У нас нет ничего общего, кроме языка («nothing in common”. И даже язык нас, порою, не объединяет, а разъединяет и противопоставляет. Люди, приехавшие, например, в восьмидесятые, не понимают и не хотят понимать тот русский, который вывезен волной конца девяностых, – язык постперестроечной России со «стрелками», «крышами», «гнилым базаром», который нужно «фильтровать» и за который принято «отвечать». Как писал С. Довлатов в «Марше одиноких», «…не каждый соотечественник – друг. И далеко не каждый, говорящий на русском языке, понятен».
Не будем в рамках одной небольшой статьи говорить о проблеме русской комьюнити в целом. Эта тема достойна большой научной монографии, которая, несомненно, ждет своих авторов. Сузим объект. Поговорим о «городе-герое» Хьюстоне. Ни Курбский, ни Герцен, ни даже Солженицын здесь не жили. А мы живем. Мы с вами, друзья мои, первопроходцы. Мы гораздо в большей степени свободны от инерции эмигрантской традиции, чем люди, которым подфартило обосноваться, скажем, в Париже. Мы могли бы создать в своем городе настоящую комьюнити. Но не делаем этого. Мы натыкаемся на те же грабли, которые портили жизнь многим поколениям эмигрантов.
Почему, например, мы не проводим большой ежегодный бал, как поляки? Ведь у нас столько красивых женщин…. Почему в Хьюстоне нет Русского клуба? Да что там клуба!.. Мы не создали ни фондов взаимопомощи, ни социальных программ, ни каких-либо организаций, облегчающих новым эмигрантам адаптацию в стране. Говорят, что на сегодняшний день в Хьюстоне и окрестностях живет около пятидесяти тысяч русскоговорящих, которые по определению могли бы влиять как комьюнити на жизнь города. На самом же деле русскоязычное население в Хьюстоне не влияет ни на что, кроме самих себя и собственного психического здоровья. Хочет, но не может, и Бог не дал. Почему? Ведь так называемая «русская комьюнити» состоит, в основном, из хорошо образованных и вполне преуспевающих людей, устроенных, в большинстве своем вполне владеющих английским языком, сравнительно молодых, «длинноногих, политических грамотных». Хотя… «крик и шум от нашего образования и духовности идет страшный» (Д. Виньковецкая).
Так в чем же все-таки дело? Почему нам не до комьюнити? Что нам мешает «слиться в едином экстазе» и стать общественной силой?
Давайте признаемся как на духу: мы не любим друг друга! Не воспринимаем и не понимаем, на кой черт другие русские, кроме, разумеется, нас с вами, сюда приперлись, отхватили хорошие зарплаты, разжились шикарными домами и новыми автомобилями и отравляют нам наш и без того хрупкий self esteem?..
Процесс создания комьюнити, если бы он «пошел», затронул бы привычку каждого думать прежде всего о себе, о возможных неудобствах и неприятностях, о том, что у него отнимется, а не о том, что всем нам прибавится.
Понятие «комьюнити» зиждется на презумпции позитива по отношению друг к другу и взаимопомощи. А помогать почему-то не хочется… Хочется, чтобы каждый съел положенное ему по статусу ведро дерьма, и, желательно, на наших глазах. После этого мы его утешим и с радостью поможем, если даст слово ни в чем нас не превзойти, а также всю жизнь помнить своих благодетелей.
Есть точка зрения, что российское неприятие чего-то выдающегося, выбивающегося из ряда вон кроется в географической специфике страны. Россия – край равнин и степей, и любая гора, холм и даже курган режут глаз.
«Русским, – писал великий философ Николай Бердяев, – идея равенства дороже идеи свободы». Пристрастие к этому нищему, несчастливому, но равенству не выпускает нас из своих цепких лап и в Америке. А в ней-то равенство изначально никем и не было предусмотрено, только – свобода. И непривычная эта свобода мешает на Западе нашему русскому счастью. И снова откроем С. Довлатова, великого бытописателя эмиграции (и не только): «Мы выбрали – свободу. А получили – свободу выбора. Как это непривычно – дать высказаться оппоненту! Как это соблазнительно – быть единственным конфидентом истины! Казалось бы, свобода мнений – великое завоевание демократии. Да здравствует свобода мнений! С легкой оговоркой – для тех, чье мнение я разделяю». («Марш одиноких»).
Вспоминается старая притча. Предложил Бог человеку: «Проси у меня все, что хочешь. Дам все, чего пожелаешь, но соседу твоему дам в два раза больше». Человек прикинул и сказал: «Господи, выбей мне глаз»! В эмиграции нас не так волнует отсутствие чего бы то ни было у нас самих, как наличие этого у наших знакомых. Мы так пристально следим за чужой жизнью, что не замечаем, как своя проходит мимо. Мы далеки от философского осознания жизни как права на различие, на непохожесть, на индивидуальность, на свой путь.
Людям, выбравшимся в Америку из Совка в семьдесят лохматом году, почему-то претит даже мысль о том, что кто-то из вновь прибывших может не проходить тот долгий и трудный путь к успеху, который проходили они. Раздражает, что кто-то уже не согласится работать за пять пятьдесят в час, что вновь прибывшие из другой, новой России – это уверенные в себе, знающие себе цену люди, вкусившие, порою, в родном отечестве куда более сладкой жизни, чем та, что может предложить, скажем, Хьюстон. Вновь прибывшие кажутся нахалами, но… Они просто другие. И приехали они из совсем другой России, где уже доступны и европейская мода, и роскошь, и отличное обслуживание – были бы деньги. Америке их трудно удивить. Она для них слишком инфантильна и бесхитростна, и не может уразуметь, что свобода слова, как и многие другие свободы, русскими в России уже воспринята с энергией неофитов, вплоть до беспредела. И этот беспредел сознания нагло вторгается в американские культурные ценности, частично уже вошедшие в плоть и кровь старой эмиграции.
В русскоязычной эмигрантской среде зачастую главным аргументом правоты является срок пребывания в стране. Стаж, так сказать. Ну просто как в лагерях: кто дольше зону топтал, тот и прав. Как крепко сидит в нас лагерное сознание!.. Или дух общака, или, если хотите, коллективизм, берущий начало в соборности с её круговой порукой и стремлением «держать и не пущать», вполне созвучным американскому законопослушанию и шизофрении политической корректности. Надо сказать, что русскому сознанию идея политкорректности глубоко чужда и противоестественна. «Мы все смеемся, если кто задет. А нас заденут – смеха больше нет…» (Шеридан, «Школа злословия»). Общее американское нежелание сделать кому-то больно иной раз перерастает в повсеместную защиту порока, ущербности и даже распущенности и тупости. «А все-таки я думаю, что существует известный предел совершенства, достижимый для человека, взятого в целом, – переступая этот предел, он скорее разменивает свои достоинства, чем приобретает их», – предупреждал нас в свое время Лоренс Стерн в «Сентиментальном путешествии по Франции и Италии».
Русской гуманной идее политкорректность вполне сродни, однако, она никогда не вписывалась вполне в российские модели социального поведения. Русский американский патриотизм политкорректен только по отношению к Америке. По отношению же к своим бывшим соотечественникам мы вполне однозначны, ортодоксальны и коммунистически непримиримы. Мы страдали – и вы должны страдать. У русских в Америке по традиции проявляется привычное двойное сознание: одно дело партия, другое – народ. Одно дело Америка, а другое – наши в Америке. Искреннее желание влиться в американский образ жизни разбивается о психопатический эгоцентризм русского менталитета: «эгоист – это тот, кто любит себя больше, чем меня» (С. Ежи Лец).
Чего греха таить, мы все приехали сюда, чтобы жить хорошо. Но что в российском сознании означает «хорошо»? Это значит – лучше других. В ущерб себе – но чтоб другие лопнули от зависти, покупаем дом, который впоследствии выплачиваем, обрезая пальцы и матерясь, но гордимся им. Приобретаем роскошные машины, отправляем детей в дорогие частные школы, в которых зачастую учат хуже, чем в public schools, но о которых можно с пафосом рассказывать друзьям и знакомым. И вся эта ярмарка тщеславия и гонка приобретательства не делает нас счастливее. Ибо в этом забеге победителей быть не может по определению. Мы просто кормим ненасытного солитера собственной зависти. А зависть, как писал Юрий Олеша, «великое чувство», которое во многом определяет русскую ментальность.
Все мы помним и любим фильм «Джек Восьмеркин – Американец». Окажись бедняга Джек среди русской комьюнити в Америке сейчас, его постигла бы та же печальная участь, что и в России далеких двадцатых. И табак бы у него назло не покупали, и зуб бы золотой выдернули из вредности, чтоб не выделывался, а был как все.
…Так за что же мы так не любим друг друга? Может быть, потому, что не дано нам любить и уважать самих себя? В обиду нам будь сказано: далеко нам до сплоченности и взаимопомощи других комьюнити, китайской, например, или индусской. Те своих тянут и дорожат успехом каждого компатриота как своим собственным.
Именно поэтому они представляют собой серьезную общественную силу и оказывают влияние на жизнь города.
Неужели мы обречены нести по жизни свои предрассудки, как черепаха – свой панцирь?! Неужели бремя недоверия, враждебности и презрения к ближнему стали константой нашего американского бытия? В хьюстонской части воспоминаний Дианы Виньковецкой пронзительным криком боли звучит мысль о том, как мучает нас «весь привезенный социальный багаж, перетянутый лентами нашей морали: и социальные утопии, и средневековая коммерция, и наивное высокомерное завышение над американцами, и нетерпимость к другому мнению,… и придумывание мифологических биографий»…
Не пора ли нам подумать о наших детях? Ведь если нет комьюнити как общественного института – не сохраняется культура, теряется язык, прерывается связь времен. В подобной обстановке дети вырастают иванами, не помнящими, а то и стесняющимися родства своего. Так чего же нам не хватает для создания нормальной полноценной комьюнити? Мы уже вполне освоились с Америкой, но до сих пор не можем освоиться друг с другом. Цитируя дневник своего героя Сергея в книге «Из Америки с познанием и сомнением» (1996), В. Любарский бросает короткую, но гениальную фразу о том, что мы достигли той стадии, «…когда «God bless America» защипало в носу – как в детстве «Широка страна моя родная»»…
Для создания комьюнити нам очень не помешало бы постоянное деятельное общение друг с другом, умение воспринимать людей такими, какие они есть, и «инджоить» каждый миг этого общения. Здесь уместно процитировать статью «Эмиграция как лаборатория наших проблем» (журнал «Нева». 2000), утверждающую, что понятие «инджоить» чуждо российскому социальному сознанию, поэтому и непереводимо. Мы не научились «инджоить» «любую жизненную частность, любой момент, который проживаешь, сосредоточившись на нем с достаточной полнотой… Можно «инджоить» свою чашечку кофе, но можно и трудную производственную проблему, можно пустую беседу, а можно и научную дискуссию… Мы жаждем прожить жизнь если не праведно, то хотя бы правильно, и это сильно мешает нам «инджоить» ее отдельные моменты».
Вот и вырисовывается, что это неумение уважать себя и любить свою жизнь и свое окружение мешает нам стать полноценной комьюнити. А хотелось бы!
Спорьте с нами. Не соглашайтесь. Возмущайтесь. Только не оставайтесь равнодушными. Пусть спор о комьюнити станет первым значимым шагом на пути к ее формированию.