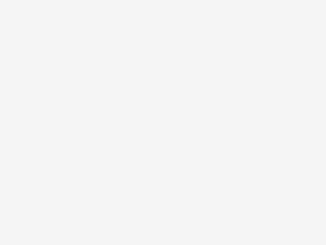Встреча с Юрием Лоресом
Встреча с Юрием Лоресом
Эта встреча не была приурочена ни к какому юбилею, не рекламировала предстоящих гастролей. А просто по гудящему, как муравейник, пенсильванскому «пьяному лесу» ходил классик. Ходил медленно – но не с важностью мэтра авторской песни, несущего себя напоказ, а с некоей сосредоточенностью нового человека, постигающего «иные берега, иные волны». Юрий Лорес… Можно не быть знатоком жанра, но его «Шиповник», «Шуламифь», «Магдалину» знают даже те, кто приблизился к стихии авторской песни едва-едва, и прихотливая «Фантазия с падающей вилкой» не становится с годами менее трогательной.
Он оказался вблизи очень похожим на себя самого, уже не юного и заметно погрустневшего, словно сошедшего с обложки собственного диска «Из Авиньона в Иерусалим»: та же небритость, вызывающая естественную ассоциацию с ритуальной еврейской скорбью, то же чуть встрепанное седое каре – легкая художественная запущенность. На нашем кэмпграунде не было только тоскливого российского снежка с этой обложки, очень точно сделанной Александром Покровским.
Юрий Лорес написал свою первую песню в 1968 году. Потом был лауреатом множества фестивалей авторской песни, членом жюри. Подошло нелегкое время – наступила опала. Нынче ею даже не похваляются, ибо, как начнешь спрашивать, все были в страдальцах от режима – но тогда его «Урок истории» впрямь стал культовым. Однако даже на самых закрытых домашних концертах, если возникало хоть самомалейшее подозрение, что в рядах своих может оказаться стукач, просили не записывать на магнитофоны.
Сегодня он не забыт и не обижен – и все-таки «Поминки по Арлекину», звучавшие в советские «года глухие» не на одной полянке опальных слетов неугодной авторской песни, сегодня почти не звучат: архивный налет появляется с жесткой неизбежностью, сколько, говорят, можно о нашем духовном Египте… Еврейская тема, одна из доминирующих в творчестве поэта, тоже как будто бы перестала быть острой: когда-то болезненное и потайное теперь затаскали до рыночного безобразия, каждый мало-мальски умеющий складывать слова на бумаге стремиться поживиться цитаткой из того или иного Завета: красиво же…
Но для его скворушки из чудной новой песни азарт базара – ветер чужих краев: Юрий Лорес с самого начала торил свою тропу сам.
Ветераны движения помнят по сей день: уже вовсю шумела перекройка – а он оставался опальным бардом кухонь, «квартирников». Задокументировав и узаконив все нецензурированное и когда-то вредное, власти, тем не менее, опасались давать ему залы – даже с поправкой на «другое время – другие песни».
– Увидев Вас, сразу вспомнила ставшие классическими строки Вадима Певзнера: «Непохожий на брата-борца…» В смысле, непохожи Вы, Юрий Львович, на борца с властью…
– Почему это непохож? Странно, а я думал… Но если серьезно, не тот борец, который воюет – а тот, кто своего не отдает! Вот я и не отдавал… Власти это прекрасно знали и в восемьдесят втором меня потащили в известное заведение на Лубянке. Угрожали: посадим, что себе позволяете! Второй мой диск – «Мы сами себе сантехники» – частично состоит из песен того времени.
– Поете их сейчас?
– Нет, ни к чему… Хотя не могу сказать, что они грешили сиюминутностью, надеюсь, что материала для обобщений было достаточно.
– Как, вероятно, и для страха…
– А кто сказал, что в КГБ на допросе должно быть нестрашно? Думаю, Галичу и Солженицыну в том здании тоже было страшно – да и не только им. Первый раз меня продержали четыре часа – в полном неведении, что будет дальше. Называлось это «профилактированием». Мало кто бы храбрился в такой ситуации…
– Скажите, когда Вы впервые почувствовали вкус свободы – и легче ли сегодня с ней, чем было без нее?
– Почувствовал – точнее, понял, что она близко, достаточно давно, и не только в силу интуиции. Я ведь работал геологом и знал, что сырьевая база страны истощается, нет средств на добывание цветных металлов. Все могло взорваться еще раньше, и платить за свободу пришлось бы куда большей кровью. Жить со свободой все равно лучше – даже с такой кособокой, как у нас сейчас. А тогда, в восемьдесят пятом, первое, о чем подумалось – это о слиянии творчества с профессией! Многим это счастье показалось возможным и близким. Тогда и был создан «Театр песни» – из которого потом образовалось творческое объединение «Первый круг». Театр был задуман как открытая бардовская площадка, в него входили достаточно интересные авторы – Андрей Анпилов, Александр Смогул, Михаил Кочетков…
– Отчего этот круг, Ваше детище, так быстро разомкнулся?
– Оттого, что у меня как у создателя была идея настоящего театра – но театра, а не братства! Всерьез это восприняли не все: некоторым показалось, что интересно называться и комфортно общаться с единомышленниками достаточно. А нужно было работать, внедрять конкретные проекты. Идея бардовской площадки многим показалась живой, актуальной: да, решили все, было бы здорово вывести на подмостки команду «второго ряда известности» – не в смысле качества песен, а в смысле раскрученности. И у всех прилично поющих была бы сцена! Но дальше одобрения на фоне того же комфортного общения дело не пошло…
– Куда же нынче деться прилично поющим, но не вполне оборотистым?
– Они и деваются – на обочину. Братья по жанру Михаил Трегер, Владимир Каденко, Александр Ткачев не угождают коммерческим вкусам, их оттирают. Сам я некоторое время вел курсы в ГИТИСе, преподавал искусство исполнения авторской песни. Все шло замечательно, но через четыре месяца денег на это искусство не стало… Сейчас нигде не числюсь, веду эпизодические мастер-классы, сижу в жюри фестивалей. Небогат, но квартира и «Жигули» есть. И, несмотря на существенный политический откат страны назад, чувствую себя свободным.
– То есть возвращение к добрым традициям диктатуры Вас не пугает? Что это у нас сегодня второй раз возникает вопрос о страхе…
– Наверное, потому, что он серьезен… Детей своих я отсюда увезу обязательно – вряд ли стоит пояснять. Понимаю, что мой песенный «Авиньон» не сможет быть им защитой в «стране локтей», которой хронически не хватает мозгов и терпения. Но пока, сегодня – не паникую, не собираю чемоданы – главным образом, потому, что не хочу опять заниматься отдельно творчеством, отдельно прокормом. Не хочу раздвоения личности.
– Ваш библейский цикл был написан в мрачную брежневскую эпоху. Почему Вы потянулись к этому источнику в семидесятые годы – то есть тогда, когда он почти пересыхал?
– Источник знаний о Б-ге не пересыхал никогда. Да, я помнил, как бабушка готовила трапезу на Пейсах, но хотелось знать более чем один эпизод еврейской истории. Доставал книги, читал. Знаний на сегодня достаточно, человек я верующий – правда, назвать себя религиозным не могу.
– Еще один пример раздвоения личностей – и не только Вашей и моей. Согласно канонам, знание законов предполагает их соблюдение. Трудно нам, родившимся на безбожье…
– Каждый выбирает для себя… Приближение к Создателю не означает для меня соблюдение всех ритуальных и диетических предписаний, но ходить по субботам в синагогу хотел бы. И вроде ничего не мешает, но случается, окружение не нравится, смущают учителя, слишком хорошо знающие, что можно, а чего нельзя… На эту тему расскажу один смешной эпизод, произошедший во время израильских гастролей. В Хевроне меня встретили, как короля, жена мэра приехала, уговоры: переезжайте навсегда с семьей или вообще не уезжайте никуда – мы вам сразу квартиру! В местной газете готовится к верстке моя статья: рассуждаю примерно о том же, о чем мы с вами сейчас говорим… И вдруг ее снимают из номера, потому что некто, имеющий право голоса, задал интересный вопрос: кто такой этот Лорес, по какому праву толкует о божественном, где учился, какую ешиву заканчивал? А ему встречный вопрос: особых прав у автора вроде никаких, но что скажет мэр? И – все, статья опубликована, никакие документы об образовании уже не требуются. Можно смеяться: земные дела регулируются своеобразно…
– А заоблачные по-прежнему принимают форму вопросов, не так ли? Скажите, пожалуйста, не вставал ли для Вас когда-нибудь вопрос о выборе вероисповедания Помню, один из журналистов назвал Вас поэтом «больше Нового, нежели Ветхого Завета». Как высчитывалась пропорция – умозрительно?
– Затрудняюсь определить, но разделения в творчестве на «мое» и «не мое» я не произвожу, и поэтом Нового Завета назвать себя не могу. Темы Книги Бытия, Книги Исхода, Шуламифь из «Песни Песней» – это все-таки иной источник. Но ведь есть и Мария Магдалина… Будучи, безусловно, евреем, я никогда не считал нужным просить разрешения на то, чтобы размышлять и говорить о христианской традиции. Хотя бы потому, что страна, в которой живу и общаюсь, христианская. А если вспомнить Мартина Бубера, традиции раннего христианства Ветхому Завету не противоречат вообще.
– Стало быть, бесприютность души, не приставшей к четко определенному берегу, явно не мешает Вам самовыражаться.
– Ненавижу это слово! Терпеть не могу! Надиктованное Б-гом, надчеловеческое, надъязыковое не передать, если «самовыражаться»…
– Но Вы, тем не менее, нередко употребляете личное местоимение первого лица единственного числа… Бог лепил Адама, но и меня, я – шиповник под окном, я иду в Авиньон навстречу своему двойнику…
– Можно было бы сослаться на определение «лирический герой», но истина глубже. Поэт записывает надиктованное свыше, высокомерие и себялюбие тут ни при чем. Просто то, что дано, даровано, необходимо перевести на человеческий язык. Пророки иудейские тоже восклицали «Я!..» – но это было словами Б-га, вложенными в их уста.
– Заветы Б-га, как известно, даны для жизни. Кто же надиктовал Вашему герою, что любовь, высшее из жизненных проявлений, есть воплощение смерти?
-«Потому я оставлю тебя, Шуламифь, что увидел в любви воплощение смерти…» Да, возлюбленную царя Соломона убили. Любовь сколько угодно можно называть высоким и светлым чувством, но она может быть несчастной, опустошающей. Царь, который поведет за собой племя и превратит его в народ, не имеет права на разрушение своей души. Жестоко? Безусловно. Но понимание своего предназначения оказалось выше. Великий философ-гуманист Виктор Франкл – еврей, бывший во Вторую мировую войну заключенным концлагеря, спрашивал неспроста: какое же это движение, если нет смерти?
– «Дана, «тода раба», еврейская судьба…» – это тоже Ваше. И тоже неизбежен вопрос: еврейское счастье – разве это то, за что благодаришь, о чем просишь для детей?
– «Ты видишь, что душа моя болит, при этом улыбается счастливо…» Я пою об этом в песне «Масличная гора» – и это не декларация: Я не забываю о том, что судьба у евреев негладкая, и неизвестно, что будет дальше. Вопрос о страхе поднимается у нас, похоже, в третий раз. Но, как известно, тот, кто не чувствует страха, не знает веры.
Ностальгируем, поставив диск… «Мы сами себе сантехники» – ярко, зло, отнюдь не навевает мыслей об архивной полке. Социальные сатиры Лореса и поныне не «чужды красоты»: хорошо автор отделал народ, привычно сбившийся в стадо и добровольно записавший себя в вечные «прачки и полотеры». Но мне бы в минуту жизни трудную, по ортодоксальной старинке, – «Шиповник»… Он всегда и безумно трогал, и озадачивал. Хотя въедливым подавай формальную логику! И они, въедливые, вслушиваясь в классическое «Прикоснись рукою к дому над рекою» отлавливает неувязку: картину-то, которой пять веков, трогать руками явно не следует… Дальнейшее вообще лишено, на первый взгляд, конкретного смысла: «Ты жила, грустила, не меня любила, думала о нем, как обо мне» – если любила не его, а другого, разве могла думать о них одинаково?
Но какая там логика, разве не бывает больная любовь не до конца логичной, а то и не вполне справедливой… И плачет раненое сердце – неутолимо, долго, наборматывает свою горестную чепуху под свирельное ломаное арпеджио. И этому веришь до конца, потому как поет оно, вроде как чужое – о тебе. И не излечиться ни за пять веков, ни за всю историю.
Концерт Юрия Лореса «40 лет пути» состоится в Русском культурном центре «Наш Техас» в субботу, 12 декабря в 7:00 вечера.
Адрес: 2337 Bissonnet Houston, TX 77005
Билеты: $20, для членов RCC: $15.
Информация по тел.: 713-395-3301 и по эл. почте rcc@ourtx.com