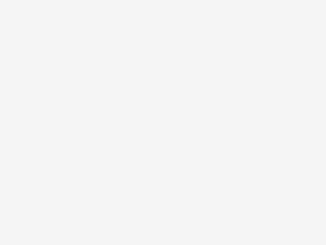Можете мне позавидовать: я попал в гости к любимому писателю Сорокину. Сыграл пару раз в шахматы, напился чаю, познакомился с его женой и двумя дочерьми. После интервью стали выбирать фотографии.
Можете мне позавидовать: я попал в гости к любимому писателю Сорокину. Сыграл пару раз в шахматы, напился чаю, познакомился с его женой и двумя дочерьми. После интервью стали выбирать фотографии.
Вот! – говорит Сорокин. – Это именно то, что вам нужно!
И дает мне фотографию, где он лежит на кушетке, во весь свой большой рост, полностью обнаженный. Со всеми, так сказать, атрибутами излюбленного карнавальной культурой телесного низа. И глаза добрые-добрые. Признаться, я несколько оторопел.
– Нет, говорю, извините, у нас такое фото коммерческий директор не пропустит…
Владимир Георгиевич, кажется, обиделся.
* * *
Еще лет семь назад о моем герое писали примерно так:
«Отправить бы Сорокина в Дахау, да не на экскурсию, и не на месяцок…» («Дружба народов»). «Бессмыслица, аморализм, мрачный гротеск, кощунства, болезненная фантазия, патологические сцены, тотальное пародирование всевозможных клише – все то, что принесло Сорокину скандальную известность, в изобилии присутствует на страницах „Голубого сала”…» («Книжное обозрение»). «Если автор болен, пусть лечится. Если здоров, подать на подлеца в суд. Как минимум по трем статьям: порнография с элементами извращения, разжигание межнациональной розни, а также надругательство над конкретными историческими лицами…» («Октябрь»)
А один критик, вообще, сочинил такое: «Сорокину, чтобы стать настоящим писателем, нужно либо посидеть в тюрьме, либо кончить жизнь самоубийством». Но Владимиру Георгиевичу – это я понял сразу – оба варианта активно не нравились. «Только наивный человек может такое посоветовать. Это все равно, как если бы я пожелал ему, как Белинскому, заразиться туберкулезом и харкать кровью – чтобы глубже чувствовать трагизм русской литературы».
* * *
Представьте, моя любимая книга Сорокина – вовсе не «Голубое сало», и не «Лед», а «День опричника», который появился четыре года назад. Действие романа происходит в 2027 году, на Руси воцарился тот же общественный строй, что при Иване Грозном. Сорокин описывает один день из жизни опричника Андрея Даниловича Комяги. По столице на «Мерседесе» с водородным двигателем разъезжает человек в кафтане…
Это, понятно, антиутопия: Сорокин предположил, что будет с Россией, если она решит выстроить Великую русскую стену и отгородиться от остального мира.
«Опричнина – это очень зловещее и очень русское явление, – рассуждает Владимир Георгиевич. – Когда Иван Грозный поделил своих подданных на опричнину и на остальных, дав всю полноту власти опричникам, практически он выделил касту жрецов абсолютной власти, которым все позволено. Парадоксально, что почти никто из классиков об этом не писал. Я думаю, эта тема настолько позорна и страшна для России, настолько кровава и мрачна, что классики просто не знали, как к ней подойти».
Сорокин утверждает, что Иван Васильевич был глубоко больным человеком, параноиком, но в этой болезни было нечто нечеловечески возвышенное. «Они ведь как жили с опричниками в Александровской слободе? В пять часов утра вставали и на молебен. Молебен длился до десяти, причем сам царь выступал в роли игумена. А после шел в пыточную и выходил оттуда такой просветленный… Опричнина оставила глубочайший след в русской душе, и с тех пор в каждом из нас живет маленький опричник».
* * *
Насилие – излюбленная сорокинская тема. Насилие всего его завораживало и одновременно будило самые разные чувства – от отвращения до почти гипнотического возбуждения. В девять лет отец повез его в Крым. Родители там сняли прекрасный домик с персиковым садом. Наутро мальчик вышел в сад, сорвал персик – и услышал из-за забора какие-то странные звуки. И понял: это сосед бьет своего тестя. Старик спросил: «За что ты меня бьешь все время?», а сосед ответил: «Бью, потому что хочется…» Вот такое первое впечатление от Крыма: персик, удары, всхлипы… Насилие всегда вызывало у него желание понять, почему люди не могут обойтись без этого.
Сорокин считает, что насилие связано прежде всего с недостатком любви, сексуальной нереализацией, неудовлетворенностью. Это желание достучаться до человека. Есть такой поэт Иван Жданов. Он регулярно устраивает драки, бьет всех подряд. В чем дело? А он просто чувствует кризис поэзии, и хочет разбудить людей, объяснить, что поэзия – это прекрасная вещь. Так и все люди. Хулиганы, которые мочат всех подряд, – это на самом деле как бы неумение достучаться до человека другими способами.
Уже несколько лет Сорокин – этический вегетарианец. Был некий толчок, когда однажды на пляже ему попался томик Толстого, и Сорокин прочел: зачем нам быть могилами животных? Это очень сильно подействовало. В Японии после занятий он каждый раз проходил мимо одного рыбного ресторана. «А там аквариум, и плавает скат. Я смотрел в его глаза – живое существо! – и думал: какой-нибудь коммивояжер, проходя мимо, ткнет пальцем, скату при нем отрежут голову, зажарят, он его сожрет, потом пойдет домой, ляжет спать, а утром сходит в туалет. Вот и все. И это божественное существо! Живое рождается для того, чтобы жить, а не чтобы перевариваться в желудке у человека. Я надеюсь, что люди через несколько сотен лет перестанут так себя вести, насиловать природу, жрать животных. И убивать друг друга».
* * *
Сорокин любит Германию, ездит туда лет двадцать и говорит, что чувствует ментальность этой страны. Ему там тепло и уютно. И кроме того, немцы его очень любят и переводят: уже двенадцать книг на немецком вышло. А еще Сорокин очень любит Китай, поэтому почти в любом романе можно найти китайские словечки. Даже начал учить китайский, но это у него не сильно получилось. А очарованность Китаем возникла давно и абсолютно случайно. Даже в лубочно-православной России «Дня опричника» ездят на китайских «Мерседесах», летают на китайских «Боингах» и легко мешают «Исполать тебе, добрый молодец!» с «Дяодалань!» (это такое китайское ругательство, переводить не буду). Сорокин говорит, что в Китае его потрясает громадная, чисто физиологическая потенция. Видел, как на электроламповом заводе там работают четырнадцатилетние крестьянские дети: их коллективность – это нечто, что в Европе не чувствуют и не понимают. Поэтому его так завораживает идея китайской гегемонии и алхимического брака между Китаем и Россией. «Из этого, поверьте, может выйти нечто великолепное!» Кстати, когда Сорокин побывал в Китае, ему рассказали очень любопытную вещь: на северо-западе страны живут этнические русские, которые, сообщаясь между собой, пишут китайские слова кириллицей. Так что в «Голубом сале» мало что придумано.
* * *
В профессии, считает Сорокин, надо быть бомбой. Нельзя прилипать к чему-то уже сделанному – нужен взрыв, нужно расчистить себе место и потом уже делать свое, новое. Крупная форма – это двадцать процентов вспышек транса, но восемьдесят процентов – механической лошадиной работы, без этого роман просто не напишешь.
На бумаге для Сорокина нет никаких заповедных мест. Бумага все стерпит, если это не оскорбление живого человека. Он всегда чувствовал, что надо уметь обходиться с материалом, как в туалете. Создать, потом стукнуть об стенку, чтоб разлетелось. И потом опять начать создавать…
Писать надо так, чтобы бумага дымилась…
Один знакомый как-то рассказал Сорокину о девушке, которая сошла с ума на почве романа «Идиот». Она лежала в психиатрической лечебнице в 1930-е годы. Эта бедная девушка, помимо того, что знала текст наизусть и могла продолжить его с любого предложения, еще была как бы дополнительным персонажем и жила в мире этого романа.
* * *
У Сорокина был чудовищный перерыв в сочинительстве. В 91-м году он написал «Сердца четырех» – и после этого семь лет не писал романов, вплоть до «Голубого сала». Он тогда получил грант, поехал в Берлин, где ему дали пятикомнатную квартиру в центре и три тысячи марок ежемесячно на мелкие расходы. Живи и работай! Сорокин так ничего и не написал. «Даже письма было тяжело писать. Произошла некая выработка. Я выработал некий старый ресурс, старую штольню. И что делать дальше, в общем, не знал. А просто повторяться не хотел…» Зато он много и успешно играл в шахматы, общался, ездил по Германии. Были какие-то чтения, какие-то театральные дела. Потом семья приехала…
А потом Владимира Георгиевича занесло в Японию. В 1999 году приехал профессор, который перевел его роман на японский, и сказал, что их университет хочет пойти на эксперимент: пригласить в качестве преподавателя живого писателя. В итоге Сорокин два года преподавал в Токийском университете. «Как на Марсе побывал. Расскажу вам одну историю. Возвращаюсь как-то после занятий к станции. Ломаная улочка идет мимо кладбища, где лежат некоторые японские классики. Смотрю: впереди старушка в кимоно везет детскую коляску. Прохожу мимо, заглядываю в коляску, а там сидят две белые болонки. Это же вещь, которую невозможно объяснить! Почему она везла их в коляске?»
* * *
В детстве маленький Володя очень хотел стать ассенизатором. Семья жила в Быкове, во дворе была канализационная яма, приезжала машина её выгружать, и он чувствовал, что это настоящее, нужное дело. Ведь процесс очистки от чего-то по сути своей благороден… «Вообще, детство у меня было довольно благополучное: нормальные родители, довольно обеспеченная семья. Но я ощущал столкновение с миром, для меня было не очень просто вступать в контакты. В школе было тяжело: парты, доски, голос учительницы. Я не понимал, зачем это все надо, и сам себе что-то устраивал, лепил динозавриков. Потом увлекся литературой, рисованием, историю полюбил… Но что касается точных наук – это давалось с трудом».
Мощный творческий посыл мальчик Володя получил, когда упал со стола. Он лез по батарее на письменный стол – и сорвался, повис на штырьке – он есть на старых батареях, сейчас такие уже не делают. Штырек вошел в шею… Все обошлось, но после этого у мальчика начались видения, и он стал жить как бы в двух мирах – реальном и фантазийном, который был намного ярче… Свой первый рассказ Сорокин написал в тринадцать лет. Он рос в Подмосковье, в охотничьей семье, и однажды написал рассказ о тетереве, о судьбе птицы. Показал родным, им понравилось. А потом написал еще рассказ – крутую эротику. Читал его одноклассникам, которые пришли в дикий восторг. Почему-то постеснялся признаться в своем авторстве: сказал, что перевел с английского… И на время к литературе охладел: ему показалось, что писать, в общем-то, очень просто. Решил стать художником. А еще ужасно любил изображать соседей, друзей, актеров. Но поскольку сильно заикался, это давалось с трудом: разговорился только в студенческие годы. Обожал делать пародии на Брежнева. В нефтяном институте имени Губкина, куда Сорокин поступил, вскоре виртуальную группу образовал ТК – в переводе, «Тормоз коммунизма». Оттягивались ребята по полной программе.
* * *
Первое (и, кажется, последнее) стихотворение Сорокина было напечатано в многотиражке «За кадры нефтяников». Называлось оно «Прощание с летом».
Как много песен спето
про перелетных птиц…
Уходит лето,
Тает лето,
И нет границ…
И жалко с летом расставаться –
всегда друзья,
И даже с летом попрощаться – увы, нельзя…
Такая вот лирическая ерунда.
* * *
Первая книга Сорокина, «Очередь», была издана в Париже, в 1985 году. Сначала появилась рукопись в единственном экземпляре, потом этот текст стал циркулировать в круге художников-концептуалистов. Одна знакомая француженка сказала Сорокину: «Ты не боишься, ведь один экземпляр всего… Давай я сделаю ксерокс и отправлю в Париж, а то, не дай бог – обыск». Сорокин согласился и уже забыл об этом, она уехала. И вдруг получает неожиданно предложение от русскоязычного парижского издательства «Синтаксис». Роман тут же переведен на французский, а потом и еще на девять языков. С этого все и началось.
Кстати, диссидентом Сорокин никогда не был, поскольку сформировался как литератор в московском андерграунде, где хорошим тоном считалась аполитичность. Прекрасно помнит притчу, которая ходила из уст в уста: когда немецкие войска входили в Париж, Пикассо сидел и рисовал яблоко… Такой была и его позиция: сиди и рисуй свое яблоко, независимо от того, что происходит вокруг
* * *
Разумеется, Сорокин абсолютно чужд современной желудочно-кишечной цивилизации, бацилле потребления. «Московский гламур – это новые голодные. Но это не голод по деньгам, а голод по вещам, как абсолюту. 70 лет у нас, по выражению Бердяева, было изобилие идей и дефицит вещей. Сейчас, когда эти идеи умерли, их место заняли идеи вещей, то есть вместо марксизма – Кензо и Дольче и Габбана… В человеке скрыты колоссальные возможности, а люди до сих пор ведут себя, как скоты – непотребно. Во многом моя литература – следствие разочарования современным человеком. Когда люди живут только материальными ценностями, это, конечно, наводит тоску»…
Сам Сорокин живет очень простой, сельской жизнью во Внуково. Две собаки, чтение, природа, прогулки, категорически никаких гламурных вечеринок. Каждое утро зимой ходит по снегу – хоть минус пять, хоть минус тридцать. Слушает и классическую музыку, и этнику, и джаз, и рок. Фонотека очень большая – правда, собачки ее часто подчищают, грызут диски, как любимую косточку, тут уж никто справиться не может. Встает Сорокин довольно рано, около восьми, выпивает стакан воды, приводит себя в порядок – и до часу дня пашет на компьютере. (Правда, стихи почему-то может писать только ручкой). Самое страшное: когда категорически не пишется – тогда высвобождается масса дополнительной энергии. Но он выход нашел: или в шахматы с компьютером играет, или дрова колет, или идет на кухню и что-то долго и тщательно готовит, а потом зовет друзей. У Сорокина ведь есть пьеса «Щи», для которой он собрал тридцать самых изысканных рецептов. «Готовка – тоже творческий процесс», – уверяет Владимир Георгиевич. А как насчет алкоголя? – аккуратно интересуюсь я. Сорокин абсолютно откровенно об этом рассказывает. В восьмидесятых-девяностых годах пил, алкоголь был очень важен – как релаксация. Сорокин как-то поговорил об этом с блестящим русским писателем Юрием Мамлеевым. Тот ему признался, что года три был пьян каждый вечер. Зачем? – спрашивает Сорокин. А это была такая защита от общего кретинизма, – отвечает Мамлеев, – как наркоз… А для Сорокина лучший наркоз – это литература, без нее, честно признается, жизнь станет невыносимой. Просто функция организма, одно из естественных отправлений, как еда, сон, секс. «Если я долго не пишу, мне становится в мире жутко неуютно».
* * *
Жена Сорокина Ира – по его словам, абсолютно не классическая жена писателя, совсем наоборот. Что его безумно радует. А классическая – это Софья Андреевна, или Анна Григорьевна Достоевская. Или все жены шестидесятников, которые лезли в каждую щель, чтобы доказать гениальность мужа… Ирина – его самый близкий друг. Когда поженились, ему было 22, а ей 19. И с тех пор вместе. «Мы с Ириной так долго вместе, что просто страшно».
В быту Сорокин старается не повторяться. Например, иногда он чистит зубы не правой, а левой рукой. «Современный человек города каждый день совершает ряд автоматических движений: чистит зубы, ест, работает. Он автоматически любит, ненавидит, общается с родственниками, с животными. Я не хочу стать такой машиной и борюсь с этим: обязательно совершаю каждый день какой-нибудь зигзаг».
Сорокин – большой, красивый, импозантный, спокойный человек. Говорит медленно, чуть заикается. Имейте в виду: в большой литературе, начиная с Библии, заикаются те, кто видел Бога. Моисей был заикой – это я так, к слову.
* * *
Дочки-близнецы Сорокина читают все, что он пишет. И иногда находят совершенно непростительные ошибки. Например, если вы откроете «Путь Бро» и прочитаете первый абзац, то поймете, что герой родился одновременно в двух местах – в Харьковской губернии и под Санкт-Петербургом. Сорокин просто забыл вычеркнуть одно место, и это пропустили все – и издатель, и редактора, и корректоры, и читатели… А дочка Маша, прочитав «Путь Бро», тут же спросила: «Папа, я так и не поняла, где же он все-таки родился?» Сорокин был в ужасе, но книга уже вышла…
* * *
Однажды Владимир Георгиевич подписывал книги в магазине, и к нему подошел человек, словно материализовавшийся из «Властелина колец»: куртка – как монашеская ряса, изможденное лицо. Говорит: вы выпустили из бездны вампиров и демонов. Настанет час, и они придут за вами! Сорокин отвечает: ну что ж, мы найдем, о чем поговорить! А перед ним лежит «Голубое сало», напечатанная издательством Ad Marginem. Этот человек подчеркнул грязным ногтем слово ad: вот куда пойдете вы!
Напоследок: трагикомическая история. Сорокин на допросе у следователя. Тот спрашивает: вы согласны, что ваши тексты – это порнография?
Сорокин: конечно!
Следователь очень удивляется: это почему?
Сорокин: потому что у меня буквы трахаются…