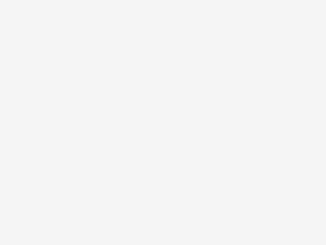«Некрасова я знал хорошо, а лучше бы и не знал. Тяжелый был человек, хотя и не без дарования, если бы не карты, вино, женщины, поджоги и убийства. Без этого и творить не мог. Придет, бывало, в клуб, метнет фальшивую талию, выиграет и сейчас же бежит.
«Некрасова я знал хорошо, а лучше бы и не знал. Тяжелый был человек, хотя и не без дарования, если бы не карты, вино, женщины, поджоги и убийства. Без этого и творить не мог. Придет, бывало, в клуб, метнет фальшивую талию, выиграет и сейчас же бежит.
– Не могу, говорит, у меня вино, карты, женщины. И все это меня дожидается»…
Этот отрывочек из пародии Аркадия Бухова, напечатанной в 1928 году, гораздо меньше далек от истины, чем увесистые тома панегириков, посвященные Николаю Алексеевичу Некрасову.
Все, кто получил российское среднее злокачественное образование, в курсе, что поэт Некрасов был революционным демократом, страстным борцом за права сирых, серых и обездоленных крестьян, жестоко угнетаемых царским режимом. Как там у него из школьной программы: «Что тебе эта скорбь вопиющая, что тебе этот бедный народ? Вечным праздником быстро бегущая – жизнь очнуться тебе не дает». Такой образцовый служитель «музы мести и печали».
Сейчас, понятное дело, никто уже в здравом уме не станет читать стихи про всех этих Проклов, Прокопиев, Аксиний и Февроний. Иные времена, иные правы.
Лично мне Николай Алексеевич бесконечно дорог тем, что еще в середине19 века предвосхитил, так сказать, шведскую семью, поскольку, издавая «Современник», он жил припеваючи в одной квартире и со своим закадычным другом и соиздателем Панаевым, и с его женой, которая параллельно являлась гражданской женой Некрасова. Любовь втроем – не вздохи на скамейке, как написал бы душещипательный советский поэт Степан Щипачев.
Да, приходится признать: душой Некрасов любил исключительно простой народ, крестьян и крестьянок, зато телом обожал женщин, вино и карты, потребляя эту замечательную смесь в убойных количествах.
Между прочим, из-за Некрасова чуть было не сорвалась Великая Октябрьская социалистическая революция, точнее, октябрьский переворот. Дело было так: однажды поэт и издатель, бродя в сильном подпитии по Литейному, посеял на тротуар разумное, доброе, вечное, а именно, свежеиспеченную рукопись Чернышевского «Что делать?». А как вы помните из дедушки Ленина, декабристы возбудили Герцена, тот – Чернышевского, а он – уже большевиков. То есть, пропади эта рукопись пропадом благодаря пьяному Некрасову, и революции бы не случилось.
Но увы: через несколько дней какой-то мелкий чиновник нашел рукопись со страшными снами Веры Павловны и доставил ее Некрасову, который, пребывая в депрессии, резался, как обычно, в карты в Английском клубе. И инцидент был исчерпан, а жаль. Жернова истории часто мелят ерунду.
В карточной игре Некрасову везло чрезвычайно. По Петербургу даже какое-то время ходили слухи, что поэт играет не совсем чисто, но доказательств этому не было решительно никаких. Просто он был чрезвычайно удачлив. При этом, понятное дело, Некрасов являлся законченным игроманом. В книге знаменитого петербургского адвоката Александра Федоровича Кони есть забавный эпизод. Однажды, после какого-то громкого скандала, когда очередной игрок разорился дотла, полиция стала разрабатывать проект, по которому все нажитые игрой деньги должны были конфисковываться. К разработке проекта привлекли и Кони. И вот, узнав об этом, к нему примчался с утра взволнованный Некрасов – мол, правда ли это? И не отберут ли у него деньги, которые он пускает на издание «Современника» и гонорары авторам?
В порыве откровенности Некрасов поведал адвокату о происхождении своего непонятно откуда взявшегося богатства, о котором так много судачили в петербургских гостиных. «В своем повествовании, довольно беспощадном к самому себе, он раскрыл предо мною болезненную психологию человека, одержимого страстью к игре, непреодолимо влекущей его на эту рискованную борьбу между счастьем и опытом, увлечением и выдержкой, запальчивостью и хладнокровием, где главную роль играет не выигрыш, не приобретение, а своеобразное сознание своего превосходства и упоение победой».
О страсти Некрасова к картам много писала в знаменитых «Воспоминаниях» Авдотья Панаева, та самая слуга двух господ и жена двух мужей: «Выздоровев, Некрасов совершенно забыл советы молодого медика – вести строго правильную жизнь. Когда я напоминала ему об этом, он доказывал, что и так всю жизнь прожил в лишениях: в молодости от неимения средств, потом от болезни, и теперь требуют, чтобы он жил не так, как ему хочется. Не только для вас, – заметила я, – а и для богатырского организма такой образ жизни, какой вы ведете, был бы вреден: вы превращаете ночь в день, а день в ночь, и притом вечно находитесь в возбужденном состоянии. – Я очень хладнокровно играю в карты, – отвечал он. – Трудно поверить, чтобы ведя такую большую игру, можно было сохранять хладнокровие. Я скоро покончу игру! – говорил Некрасов, – а теперь глупо бросать ее, когда мне везет такое дурацкое счастье. Но он уже не раз повторял, что скоро бросит игру. У Некрасова появились приметы в игре: например, он брал из конторы «Современника» тысячи две рублей и вкладывал их в середину своих десятков тысяч рублей для счастья, или полагал, что непременно проиграет, если выдаст деньги в тот день, когда вечером предстояла большая игра».
С этой странной приметой связан один трагический случай, который Некрасов не мог забыть до самой смерти. В «Современнике» сотрудничал один молодой журналист Пиотровский, который постоянно брал вперед деньги у Некрасова. И вот однажды утром Пиотровский выпросил у Некрасова денег, а вечером тот проиграл крупную сумму. Примерно через неделю Пиотровский прислал Некрасову с письмом какую-то женщину, снова прося денег. И к тому же сообщил в слезном письме, что если Некрасов откажет ему в трехстах рублях, то ему придется пустить себе пулю в лоб.
Сердобольная Панаева долго уговаривала Некрасова послать деньги. Может быть, он и в самом деле в безвыходном положении, – заметила Панаева. – Пошлите ему денег!
Некрасов категорически отказался: «Не дам! Он не более недели тому назад взял у меня двести рублей, тоже говоря, что у него петля на шее. Да и я по его милости проигрался. Знаю, что все это глупо, но я положил себе за правило не давать денег в тот день, когда предстоит мне большая игра, потому что всегда остаюсь в проигрыше. Да и вчера посчитал, сколько роздано вперед денег по журналу, оказалось, около двадцати пяти тысяч.»
– Ну, уж еще триста рублей – капля в море! – заметила Панаева.
Наконец, поддавшись уговорам, Некрасов обещал назавтра послать журналисту деньги.
На другой день Некрасов встал почти к самому обеду. Когда подавали пирожное, вошел Чернышевский. Он был так бледен, что Панаева шепнула Добролюбову: мол, не случилось ли какого несчастья в семье у Чернышевского. Добролюбов спросил его, что с ним. Чернышевский взволнованным голосом ответил: сейчас только от несчастного Пиотровского, он застрелился.
Все были поражены этим ужасным известием. А Некрасов, страшно изменившись в лице, вскочил с места и ушел в кабинет.
О самоубийстве Пиотровского Чернышевскому сообщил один из товарищей несчастного журналиста. Чернышевский поспешил к нему на квартиру, но нашел его уже мертвым. Оказалось, Пиотровский был должен не так и много – всего тысячу рублей. Но мысль, что ему придется сидеть в долговом отделении, которым ему грозил один из кредиторов, побудила его кончить жизнь самоубийством. Если бы Некрасову не предстояла вечером большая игра, все сложилось бы совсем по-другому, и невинная душа была бы спасена. К чести издателя «Современника», он тут же дал Чернышевскому денег, прося распорядиться похоронами несчастного молодого человека и уплатой всех его долгов.
«Три дня Некрасов не выходил из кабинета и был сильно потрясен, – вспоминала Панаева. – Он говорил мне: ну могло ли мне прийти в голову, что из-за трехсот рублей человек может застрелиться? Это ужасно! Я охотно бы дал десять тысяч, чтобы избежать такого мучительного состояния, в котором теперь нахожусь».
Вскоре после отъезда Тургенева за границу в литературных кружках появились слухи о письме Огарева к Кавелину, в котором Некрасов обвинялся в том, что проиграл тридцать тысяч денег, принадлежавших умершей жене Огарева. Никому не показалось странным, почему Огарев так долго молчал об этом; его жена умерла в начале пятидесятых годов, а он только теперь вдруг, ни с того ни с сего, нашел нужным огласить поступок Некрасова.
Панаев в своем письме стыдил Огарева и, между прочим, писал: «Ты не дал даже себе труда подумать, откуда могли быть у твоей умершей жены тридцать тысяч. Тебе следовало бы прежде проверить слова той личности, которая явилась к тебе с подобным сведением. Что Некрасов ведет большую игру, это верно, но это еще далеко от того, чтобы подозревать его в таком грязном поступке. Да и не нам с тобою быть судьями чужих слабостей, оглянемся лучше на наше прошлое и спросим самих себя: имеем ли мы право презирать людей за их бесхарактерность и дурные увлечения».