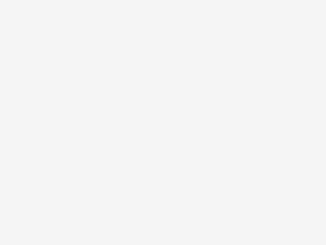В «Нашем Техасе» мы уже не раз писали об этом уникальном и загадочном человеке – между прочим, давнем друге семьи Бушей. Да-да, тот самый знаменитый Виктор Петрик, которого одни российские академики считают современным Леонардо, а другие – шарлатаном, гипнотизером и лже-ученым.
В «Нашем Техасе» мы уже не раз писали об этом уникальном и загадочном человеке – между прочим, давнем друге семьи Бушей. Да-да, тот самый знаменитый Виктор Петрик, которого одни российские академики считают современным Леонардо, а другие – шарлатаном, гипнотизером и лже-ученым.
Так вот оказывается, он еще и блестящий художник-фальсификатор. А началось все с коллекционирования: еще в студенческие годы Петрик собрал с нуля потрясающую коллекцию картин. Нестеров, Поленов, Айвазовский, малые голландцы…
Насколько я понимаю, одним из главных поводов для ареста и суда стало ваше коллекционирование живописи.
Нет, конечно. Повод был совершенно иной. Вот посмотрите на Ютубе интервью Евгения Мицека, начальника колонии, в которой я просидел после суда почти целый год. Содержали меня в отдельном от остальной зоны помещении, кормили обедами из офицерской столовой. Евгений Иванович рассказывает о том, что в течение года в колонию ко мне трижды приезжала прокурор по надзору за КГБ и другие высокопоставленные начальники. Таким образом, коллекционирование и связанные с ним промыслы послужили всего лишь средством для ареста и суда.
 А в то время, когда мне было двадцать с небольшим, я был членом городского комитета художников и лучшим в стране фальсификатором живописи. Что касается первого, мне повезло: моим учителем был тогда всемирно известный художник – график Владимир Евтихиев. Не помню ни одной Дрезденской выставки, где бы книги Евтихиева не получали медалей – от бронзовых до золотых. Учитель требовал от меня ежедневных упражнений – тысяча палочек правой рукой и столько же левой рукой, пером, тушью. Сам он никогда не пользовался вырезными алфавитами, как это делали другие художники, он создавал обложку от руки за несколько часов. В то время такая работа оценивалась в 90 рублей. Что касается фальсификаций, мне тоже повезло – у меня был лучший учитель реставрации, знаменитый скульптор Юрий Линник. А от реставрационных навыков до подделки рукой подать. Реставрируя картину, ты познаешь мастера, его палитру, мазок, приемы. Ну и немного таланта нужно. Конечно, лучший фальсификатор живописи – в этом словосочетании мало чести, равно как и в нынешнем – лжеученый. Какая-то горькая ирония судьбы. А ведь мои подделки живописи были настоящей живописью, так же как и мои научные решения являются настоящей наукой. Ну, время все расставит на свои места.
А в то время, когда мне было двадцать с небольшим, я был членом городского комитета художников и лучшим в стране фальсификатором живописи. Что касается первого, мне повезло: моим учителем был тогда всемирно известный художник – график Владимир Евтихиев. Не помню ни одной Дрезденской выставки, где бы книги Евтихиева не получали медалей – от бронзовых до золотых. Учитель требовал от меня ежедневных упражнений – тысяча палочек правой рукой и столько же левой рукой, пером, тушью. Сам он никогда не пользовался вырезными алфавитами, как это делали другие художники, он создавал обложку от руки за несколько часов. В то время такая работа оценивалась в 90 рублей. Что касается фальсификаций, мне тоже повезло – у меня был лучший учитель реставрации, знаменитый скульптор Юрий Линник. А от реставрационных навыков до подделки рукой подать. Реставрируя картину, ты познаешь мастера, его палитру, мазок, приемы. Ну и немного таланта нужно. Конечно, лучший фальсификатор живописи – в этом словосочетании мало чести, равно как и в нынешнем – лжеученый. Какая-то горькая ирония судьбы. А ведь мои подделки живописи были настоящей живописью, так же как и мои научные решения являются настоящей наукой. Ну, время все расставит на свои места.
 Знаете, Михаил, коллекционеры того времени были элитой. Как правило, у каждого за плечами в прошлом высокий пост, возраст за шестьдесят, проникнуть в этот клан постороннему просто невозможно. Но я был вхож, меня ждали, любили, я был равным и особо желанным гостем в любом из этих домов. И Ю. Руйский, и С. Осипов, и М. Рыбков – крупнейшие имена, крупнейшие коллекции, были моими друзьями, они жаждали меня видеть и безумно боялись в мои двадцать с лишним лет. Почему? Да потому что коллекции и сам процесс коллекционирования были их единственной, всепоглощающей страстью. Вот пример этой силы, этой страсти – ни один из известных мне коллекционеров не оставил свою коллекцию наследникам, всё завещали музеям. Чтобы его любимые картины, его коллекция не была потом распродана и не досталась его соперникам!
Знаете, Михаил, коллекционеры того времени были элитой. Как правило, у каждого за плечами в прошлом высокий пост, возраст за шестьдесят, проникнуть в этот клан постороннему просто невозможно. Но я был вхож, меня ждали, любили, я был равным и особо желанным гостем в любом из этих домов. И Ю. Руйский, и С. Осипов, и М. Рыбков – крупнейшие имена, крупнейшие коллекции, были моими друзьями, они жаждали меня видеть и безумно боялись в мои двадцать с лишним лет. Почему? Да потому что коллекции и сам процесс коллекционирования были их единственной, всепоглощающей страстью. Вот пример этой силы, этой страсти – ни один из известных мне коллекционеров не оставил свою коллекцию наследникам, всё завещали музеям. Чтобы его любимые картины, его коллекция не была потом распродана и не досталась его соперникам!
И не было в нашей жизни ничего более чудесного, чем обмен картинами, процесс обновления коллекции. Вот в Японии коллекционер делает так: он приходит и дарит картину. Вы вскоре в ответ несете свою картину и тоже дарите картину. У нас происходило иначе. Обмен мог длиться и двое, и трое суток. Вы приходите, ставятся чаи, все это обставляется потрясающим ритуалом доброжелательности, дружбы. И наконец, начинается обмен. Вы говорите: вот у меня Левитан. Он отвечает: это не Левитан. Вы говорите: ну, по меньшей мере, очень левитанистая вещь, но все же давай посмотрим. Находите по отношению к ней какие-нибудь доказательства, штрихи из других картин. Наконец ваш хозяин начинает сомневаться и приходит к выводу, что это действительно Левитан. Обмен свершился. Он сложный, потому что он отдает картину лучше, чем эта, и требует довеска, добавки. Вы добавляете, но теперь вы перевесили и требуете от него добавки. И к концу уже идут всякие третьестепенные картинки. Наконец вы говорите: по рукам? По рукам! Потом вы говорите: ну как же ты мог поверить, что это Левитан! Ах, так! Ты, такой-сякой, как же я мог лохануться (извините за современный сленг)! Теперь я приеду к тебе, скоро мне поступит потрясающая вещь, твоя мечта, привезу… Таким образом, это была борьба знаний, интеллекта. Целая жизнь протекала за несколько дней, пока длился обмен.
 Так почему вас боялись, я не понял.
Так почему вас боялись, я не понял.
Они знали, что я могу привести собственную подделку, вот боялись. И вместе с тем дрожали от возбуждения и из чувства корысти тоже. Ведь у меня он возьмет мою подделку в любом случае не так дорого (сам-то я знаю, что это моих рук дело). А он-то уж сможет за нее выменять что-то серьезное, и скорее всего, у него это что-то уже на примете.
А как вам удалось вобрать в себя такой объем знаний за считанные годы?
Основные навыки пришли, конечно, благодаря реставрации. Но кроме этого, я усердно изучил многие вторичные признаки, которые, как правило, ускользали от внимания коллекционеров. Например, я изучил все вязки холстов всех времен и народов. Вот Айвазовский: он всегда писал на французском холсте косой вязки. Мелкой, косой вязки. А еще есть гвозди, еще есть подрамник, есть кракелюр. Я уже в это время глубоко занимался химией.
Я первый разработал способ, как можно сделать икону 16, 18 века, и на ней кракелюр – это та самая неизбежная паволока. Берется специальный клей, специальный состав, вы пишете, потом вы ее ломаете, она трещит, появляются кракелюры. Кракелюр может быть чешуйчатым – 16 век, может быть паутинным – 17 век и т. д. И когда ты сам прошел через эту школу, что такое кракелюр и как его сделать, то потом на картине сразу его видишь, какой он. Те тончайшие вещи, которые являются, наверно, интеграцией знаний. Мазок, какой он – корпусный, уложенный, неуложенный, плотный, неплотный…
 Теоретически вы могли пойти путем Ван Меегерена – великого подделывателя Вермеера Дельфтского?
Теоретически вы могли пойти путем Ван Меегерена – великого подделывателя Вермеера Дельфтского?
Ну это слишком, но ассоциации есть. Когда мне вменяли статью «спекуляция» – то есть перепродажа чужого труда с целью наживы (речь идет о картине Малевича, которую я написал красками, смытыми с третьеразрядной картины, и экспертиза показала, что она подлинная), я, точно так же как Меегерен, просил дать мне краски в камеру: пожалуйста, я повторю эту работу. Не дали.
Это можно писать?
Смело пишите, я этого не стесняюсь. С Ильей Сергеевичем Глазуновым на спор я написал к выставке Левитана две картины, обе были приняты на выставку и вошли в сборник. Много писал малых голландцев, они сейчас висят в доме. Это была моя страсть и это опять-таки очень сложная история. Доска должна быть паркетирована. Достать ее невозможно – значит, ее нужно сделать. В ход шли всякие специальные кислотно-щелочные обработки, и запыление, ведь нужно снова дать века этой патины и тронутости дерева. Применялось все: и ТВЧ, и СВЧ, и специальное облучение – и картина получалась.
Скажите честно: вы эти подделки продавали?
Нет, не продавал, потому что продажа подделки неэтична, недопустима согласно неписанному кодексу коллекционеров. Но менять – менял.
Это опять-таки для печати?
Стопроцентно. А это право каждого. Я вам расскажу одну грандиозную историю. Был такой собиратель, очень серьезно нашумевший среди нас, блестящая личность. Он переписывался с самим Шагалом. Более того, он пытался привезти выставку Шагала в Москву, и Шагал подготовил картины, но на границе их развернули. Все коллекционеры знали его из-за персонального знакомства с Шагалом.
 И вот он как-то еще с одним знаменитым коллекционером обратился ко мне с просьбой, написать картину Шагала. Я это сделал, получил деньги. Мужчина, две желтых свечи в руке – довольно крупная работа, на паркетированной доске, я ее и обжигал, и салом намазывал, и снова обжигал, получилась потрясающая картина. И вот наш герой показал всем письмо, в котором Шагал пишет: на улице Дзержинского оставлена работа такая-то и такая-то в доме таком-то, вот квартиру не помню, ищите. Он всем рассказывал легенду, что он ее ищет. Коллекционеры, конечно, с нетерпением ждали. Потом, когда уже всем стало надоедать, он вдруг объявил: нашел! На своей прекрасной даче в Пушкине собрал всех коллекционеров, отдернул занавеску – и там висела эта работа. Она пошла по рукам, ее меняли, и каждый рано или поздно понимал, что это подделка, с помощью музеев, и т. д.
И вот он как-то еще с одним знаменитым коллекционером обратился ко мне с просьбой, написать картину Шагала. Я это сделал, получил деньги. Мужчина, две желтых свечи в руке – довольно крупная работа, на паркетированной доске, я ее и обжигал, и салом намазывал, и снова обжигал, получилась потрясающая картина. И вот наш герой показал всем письмо, в котором Шагал пишет: на улице Дзержинского оставлена работа такая-то и такая-то в доме таком-то, вот квартиру не помню, ищите. Он всем рассказывал легенду, что он ее ищет. Коллекционеры, конечно, с нетерпением ждали. Потом, когда уже всем стало надоедать, он вдруг объявил: нашел! На своей прекрасной даче в Пушкине собрал всех коллекционеров, отдернул занавеску – и там висела эта работа. Она пошла по рукам, ее меняли, и каждый рано или поздно понимал, что это подделка, с помощью музеев, и т. д.
Забавно.
Последний, кто на ней сел очень серьезно, это господин Квашневский, который был самым крупным коллекционером в нашей стране, самым знаменитым и самый богатым. С ним, кстати, у меня связана забавная история. Однажды Квашневскому кто-то сообщил, что в Ленинграде есть вот такой совсем молодой обладатель потрясающей коллекции. И Квашневский поехал ко мне. К его приезду я на стене повесил с десяток великолепнейших вещей и две вещи красивые, настоящие, но они никакого отношения к искусству не имеют, итальянского художника Риццони. Картины такие яркие, слащавые, клеенчатообразные, там море, кипарисы, голубое небо… И вот я повесил двух Риццони, я даже их у кого-то взял, потому что не держал такую живопись, и говорю ему: видите, это мой отец собирал, я тоже коллекционер, говорю с таким специальным акцентом серьезным, иду по стопам отца, вот я эти картины выменял. Он меня и спрашивает: а что же вы за них отдали? Да, говорю, был у меня такой дед, держится за оглоблю – Репин, в общем. Вот я Репина отдал и вот эти две вещи взял. Квашневский буквально оцепенел. Он понял, что нашел золотое дно. В этот же день мы с ним поменялись, я ему отдал прекрасную вещь, проиграв при этом тысяч двадцать, примерно.
Ничего себе!
Вы помните, что такое было двадцать тысяч по тем временам – две «Волги». Он уехал абсолютно счастливый, я его эти выменянные вещи куда-то выбросил, поскольку они мне просто были не нужны. Потрясенный, он приехал ко мне повторно. Я терпеливо в этот раз пролетел тысяч на пятьдесят. Квашневский понял, что попал на фантастическую жилу. Наконец в очередной приезд я ему рассказал, что мой отец больше всего просил хранить две вещи. И из-под кровати вытащил старую, огромную шкатулку, величиной с картину, в ней была великолепная, фантастическая подделка Рубенса, 18 века. Писал ее кто-то очень серьезный. Так вот, я достал эту шкатулку и достал Шагала. Про Рубенса сказал, что бабы у него толстые, что мне на них противно смотреть. И сказал, что хочу поменяться на такие картины, которые в книжке есть. Он говорит: как это, в книжке? Ну, говорю, чтобы их фотография в книжке была! Я якобы даже не знал слово «репродукция». Тогда, мол, я поменяюсь, а по-другому не хочу. Он спрашивает: кого же я хочу? Говорю: хочу четыре Айвазовских. Почему именно четыре? Потому, что у Линника есть три Айвазовских, а я хочу его переплюнуть, вот так. А кроме того, мне очень хочется иметь Нестерова и Поленова.
И он мне это привез, все вещи подлинные, выставочные, репродуцированные в каталогах. Уехал в Москву, потешился неделю, пригласил директора Пушкинского музея, она говорит: что-то у меня есть сомнения. Пришли другие искусствоведы, тоже засомневались. «Да вы не знаете историю этих картин», – настаивал Квашневский. В конечном итоге он слег в больницу. И вот приехал к нему известный коллекционер и спрашивает, с кем он менялся, у кого взял эти картины. Да, говорит тот, у одного начинающего придурка из Ленинграда. Коллекционер говорит: подожди-подожди, это не Петрик ли случайно? Так ты не хворай, вставай и радуйся, что легко отделался. Вся страна потом смеялась.
И сколько составила чистая прибыль с этой операции?
Послушайте, так говорить нельзя. Я хочу вам сказать: это был добросовестный союз двоих. Ведь он-то ко мне, с какой целью приехал? Ведь не постеснялся облапошить неопытного юношу. Это происходило по аналогии современных сделок: вы заключаете контракт, работают ваши юристы, его юристы, чьи пересилят, так и будет. Мой следователь потом кричал: это мошенничество и всех вас, коллекционеров, нужно посадить, потому что вы друг с другом мошенничаете. А мы не мошенничали, шла борьба интеллектов, борьба знаний. Мы любили друг друга!
Ну, в это как-то не очень верится…
Был один только прецедент, некто Ранский, коллекционер, приехал со своим сыном… Так вот, они повалили хозяина Лищевского на пол и выдавили ему в рот тюбик краски, за то что тот недобросовестно сослался на источник в обмене – вот это было запрещено. Вранье было запрещено. Врать, что искусствовед такой-то дал такое-то заключение, а это было нельзя, для тебя бы тут же закрылись все двери, это хуже всего, тебя бы изолировали, как нечестного человека. Поэтому все остальное у нас было абсолютно честно. Это было красиво, это было по-настоящему. И никакого мошенничества!
Я вам вот что расскажу. У нас среди коллекционеров была гениальная женщина, Корнеловская Марья Ивановна, к ней даже министр культуры Фурцева приезжала, так как Марья Ивановна требовала, чтобы для ее коллекции был создан отдельный музей. Картины у нее висели внахлест друг на друга. Представляете, от потолка донизу выглядывал только верх картины, потому что их некуда было деть. И ясно, что Мария Ивановна заслужила их своим собственным интеллектом. Сама она говорила, что защитила двенадцать докторских диссертаций по искусствоведению – и это была чистая правда.
Что такое была Мария Ивановна? Расскажу вам один случай, который я наблюдал собственными глазами. Тогда на Невском проспекте, был антикварный магазин под названием «Галерея», на втором этаже вокруг была галерея, где вешались картины, а вы идете вдоль этих картин. И вот смотрю, потрясающей работы портрет, но без подписи, и один коллекционер в него вцепился. А пока он держит, другие не имеют права этой картиной распоряжаться. И вдруг все зашептались: Марья Ивановна идет, Марья Ивановна. Все расступились почтительно, коллекционер держит портрет. А у нее один глаз был – такая дородная хохлушка, огромная, с платком накинутым… И вот проходя мимо, она посмотрела одним глазом и говорит: поплевать да выбросить! И пошла дальше. После такого мнения Марьи Ивановны и держать-то картину неудобно. Человек повесил портрет. Марья Ивановна возвращается с чеком и громко говорит: разбираться надо, Крамской! А это сударыня такая-то нарисована, дочка такого-то помещика! Вот так! Это было потрясающе!
Этот мир уже ушедший?
Конечно. Сейчас стремительно раскупается все, что только может появиться в магазинах – в основном, нефтяниками. Есть специальные люди, которые скупают все, что хоть чуть-чуть похоже на живопись – они по любому не пролетят.
Что, позвольте узнать, случилось с вашей коллекцией после суда?
Все отобрали. После конфискации сто пятьдесят подлинников были распределены в пятнадцати музеях Ленинграда и области.
Висят и поныне, сейчас мог бы судиться, вернуть, но вот беда – дело мое, что о двенадцати томах, оказалось похищенным. Нет моего уголовного дела! Вот Поленов, тот самый, которого я у Квашневского выменял, чудом остался. Недавно он был атрибутирован лучшими искусствоведами. Да, это была удивительная жизнь…
И в заключение: о чем вы мечтаете, чего бы хотели сейчас, Виктор Иванович?
Пытаясь ответить вам искренне, я, как видите, закрыл глаза – и мне сразу вспомнился повисший над временем вопрос золотой рыбки «Чего тебе надобно старче?» Считаю, что это была демоническая провокация, к которой не готов никто из живущих…