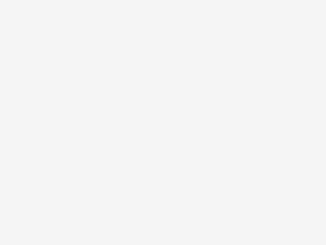Если кто не в курсе: теплым майским днем этого года в Москве произошла так называемая «контрольная прогулка». Акунин, Быков, Улицкая, Шендерович и еще много популярных российских писателей решили побродить по столице в окружении поклонников, пообщаться, раздать автографы и заодно проверить, можно ли свободно по городу ходить или уже нет.
Оказалось – можно, ОМОН никого не винтил, читатели были трезвые, писатели – на редкость доступные и демократичные. И все это, доложу вам, довольно странно.
Поскольку скромность, конечно, украшает человека, но только если он не писатель.
И почти каждому второму представителю этой профессии «быть знаменитым некрасиво» – нет, надо непременно быть гениальным. Или казаться, хотя бы самому себе. Ну что вы хотите, Россия до сих пор – очень литературоцентричная страна.
* * *
Как-то я попал в гости к Владимиру Сорокину. Сыграл пару раз в шахматы, напился чаю, познакомился с его женой и двумя дочерьми. После интервью стали выбирать фотографии. «Вот, – говорит Сорокин. – Это именно то, что вам нужно! Это удивительно, это восхитительно красиво!»
Долго и влюблено смотрит на фотографию, как Отелло на Джульетту. Потом дает посмотреть. Гляжу: он там лежит на кушетке, во весь свой большой рост, полностью обнаженный. Со всеми, так сказать, атрибутами излюбленного карнавальной культурой телесного низа. И глаза добрые-добрые.
Признаться, я несколько оторопел. «Нет, говорю, извините, у нас такое фото коммерческий директор не пропустит…» Владимир Георгиевич очень сильно обиделся.
* * *
Моя добрая знакомая, редактор питерского журнала, в свое время закончила с красным дипломом литературный институт имени Горького. Там ходили замечательные байки про поэта Николая Рубцова. Вот он однажды вышел в общежитии на кухню, а там что-то себе готовил первокурсник. Увидел Рубцова и растерялся. Тот довольно хмыкнул и заметил: «Что же вы не здороваетесь со мной, молодой человек? Не тушуйтесь! Я гений, но я прост с людьми». Еще однажды на площадках всех этажей пропали портреты классиков. Их обнаружили в комнате Рубцова. Когда стали расспрашивать, поэт сказал: ну, должен же я хоть иногда общаться с себе подобными.
* * *
Один дагестанский поэт, которого я долго и безуспешно пытался перевести на русский, рассказывал мне за коньяком истории о Расуле Гамзатове. Тот в юности его сильно опекал.
Вот, к примеру, еще в советские годы Гамзатов как-то пожаловался Кобзону: мол, никак не могу квартиру в Москве получить. Кобзон сразу пошел к московскому мэру Промыслову, а тот очень удивился. «Да где мы ему только не предлагали квартиру, в самых лучших и престижных домах на улице Горького, Алексея Толстого, Чайковского. А он – категорически не берет.»
Кобзон, разгневанный, звонит Гамзатову: что ты меня обманываешь. Это же мечта – квартира в самом центре!
Тот отвечает: «Улица Горького, Толстого, Чайковского… А ты подумал: вот когда я умру, их в мою честь разве переименуют?»
Гамзатов очень любил выпить в знаменитом ресторане Центрального дома литераторов.
И вот однажды предлагает поэту Кайсыну Кулиеву выпить, тот отказывается, другому – «мне нельзя», третьему… Гамзатов тяжело вздыхает: да, только двое нас осталось пьющих.
– А кто эти двое? – спрашивают его.
– Я и мой народ!
Кстати, когда объявили антиалкогольную кампанию, везде даже в этом знаменитом литературном ресторане продажа водки была строго ограничена. Гамзатов сказал так: ну что же, будем приносить ее в себе.
* * *
Дарья Донцова поначалу порадовала меня детской непосредственностью. Я ей – «скажите, Агриппина Аркадьевна…», она перебивает: «нет, зовите меня просто Груня. Я вам верю». Рассказывала о себе и смешно, и совсем без пафоса. К примеру, как она, после химиотерапии, написав в больнице пять романов, побежала в издательство «Эксмо». «Вы видели, как после химеотерапии выглядят? Это лысенькое такое существо серо-буро-зеленого цвета, которое все время трясется, потому что у него нарушена терморегуляция». И вот жаркий сентябрь, Донцову трясет, и она с рукописью под мышкой пришла в издательство. Охранник оказался сердобольный – пропустил. И Донцова попала в кабинет к главному редактору. Это был высокий, красивый, приятно пахнущий мужчина в костюме от Хуго Босс. Что у вас? Детектив. Очень хорошо, пройдите по коридору, у вас рукопись возьмут. Донцова из последних сил потопала к женщине, которая занималась женскими детективами. И увидела колонны рукописей. Когда вышла на улицу, расплакалась прямо на автобусной остановке. Люди подходили, спрашивали, чем помочь, предлагали сигареты.
Ну, думаю, повезло: совсем вменяемый писатель попался, хоть и детективщик. Увы, потом Донцова на полном серьезе стала меня уверять, что ее автограф приносит необыкновенную удачу. И если она подписала человеку книгу, значит, у того все будет по жизни очень хорошо. Вот подписала одной даме книжку, разговорилась, а та жалуется: не могу, мол, никак замуж выйти.
Донцова уверенно говорит: через шесть месяцев выйдешь замуж, сделаешь прекрасную партию. Только ходи по улицам аккуратно. Если он, к примеру, тебя локтем толкнет, ты в ответ улыбнись. Ровно через полгода эта дама прибегает уже в другой магазин и кричит: люди, Донцова реально приносит фантастическую удачу! Я вышла замуж! Я уже беременна!
Агриппина Аркадьевна (ой, простите – Груня) искренне верит, что ее автограф творит чудеса и помогает забеременеть.
* * *
Однажды зимой я приехал в Переделкино к Андрею Вознесенскому. Снег, мороз: думаю, сейчас вылезет голый из ближайшего сугроба. Просто среди литераторов ходит байка, которую замечательно описал Довлатов. Мол, как-то одна знакомая четы Вознесенских поехала к ним на дачу, было это в середине зимы. Жена Вознесенского, Зоя, встретила ее очень радушно. Хозяин не появлялся. Где же Андрей?
– Сидит в чулане. В дубленке на голое тело.
– С чего вдруг?
– Из чулана вид хороший на дорогу. А к нам должны приехать западные журналисты. Андрюша и решил: как появится машина – дубленку в сторону. Выбежит на задний двор и будет обсыпаться снегом. Журналисты увидят – русский медведь купается в снегу. Колоритно и впечатляюще. Андрюша их заметит, смутится. Затем, прикрывая срам, убежит. А статьи в западных газетах будут начинаться так: «Гениального русского поэта мы застали купающимся в снегу». Может быть, они даже сфотографируют его. Представляешь, бежит Андрюша с голым задом, а кругом российские снега.
Увы: у Вознесенского тогда пропал голос, и в сугробе он передо мной купаться не стал.
Зато потом рассказал, что уходил от когда-то любимых, а потом разлюбленных женщин налегке, «взяв только плащ и гениальность».
* * *
Давным-давно я брал интервью у очень живого классика, писателя П. – лауреата Госпремий, орденоносца, депутата – наград, почти как у дорогого товарища Леонида Ильича. Писатель долго рассказывал мне про нравственность и любовь к ближнему, про человечность, которая уходит от нас. Жутко трогательно. Когда интервью было закончено, орденоносец широким жестом достал из холодильника литровую бутылку водки. Ну, по чуть-чуть на дорожку? Когда бутылка опустела, классик внезапно упал со стула. Я протянул руку, чтобы ему помочь, и тут его неадекватное состояние как ветром сдуло.
– Что вы себе позволяете, – закричал он абсолютно трезвым голосом. – Не смейте притрагиваться ко мне! Я же – гений, а вы – обычное дерьмо.
Интервью это, кстати, не вышло, уж больно душещипательным получилось.
* * *
Поэта Владимира Вишневского уже давно называют не иначе, как «Хайамом наших дней». Что тут возразить? По счастью, в отличие от средневекового классика, он пьет гораздо меньше. Налил мне сто граммов ликера, себе каплю – и все.
И тем не менее. Вот недавно проходит Вишневский мимо пивного ларька, поневоле глядя, есть ли «Очаковское», а один человек, уже нетрезвый, вдруг требует: о, пульни-как одностишие. Или вот еще история. Плывет на корабле: лето, солнце, река, и прелестная девушка в белом платье, которая протягивает кулек конфет – ну, прямо как с рекламной картинки. И мило улыбается: угощайтесь, пожалуйста. Поэт понимает, что конфету ему вполне можно и берет. «А где одностишие?» – удивляется она. Такая вот милая непосредственность.
Примерно то же самое было в Геленджике. В гостинице Вишневский идет по коридору, а навстречу – маленький ребенок и с ним огромная мамаша. Он даже не то что шарахнулся, а так, отодвинулся, чтобы на нее не налететь. И вот она с таким трогательным иногородним говором так требовательно говорит: «Ну-ка! Афоризм на ребенка!»
Или еще: лежит недавно на тихом пляже, небольшом и слышит спор одной парочки. Она ему внушает: я же тебе говорю, это он. А парень отвечает: да нет, брось, он на этом пляже не может лежать. Так они спорили-спорили, потом парень подходит – такого полукриминального вида бизнесмен. Поэт уже напрягся, а он достаточно развязно говорит: слышь, мы тут поспорили с женой, ты не Вишневский? Тот стал напряженно думать, что ответить. Согласиться «да, я Вишневский» – это уже пафос. Сказать «извините, да» – это очень по-интеллигентски. Извините, мол, что я живу. Вообще само это «да» – это так же, как пафосный зануда говорит на «спасибо» – «пожалуйста». Это значит, что ты так ценишь свою доброту.
Вишневский что-то все-таки ответил, он отполз назад. Они опять шушукались, потом смотрит – ползет. Слышь, говорит, а ты не можешь сказать, что ты не Вишневский? Поэт очень удивился: зачем? Ты понимаешь, мы поспорили, и я ей проспорил поездку заграничную. Причем не в Анталию, куда ему было положено ездить, а почему-то в Бельгию. Владимир Петрович говорит: нет, я всегда за женщин – раз она выиграла, так тому и быть. Он остался очень недоволен.
В одной книжке Вишневского есть такая страница, где собраны все одностишия, связанные с самовозвеличиванием себя. Например: «Сейчас меня не знать – уже пробел», «Еще никто мне не прощал таланта», «Да это я тут гранями играю», «Займусь собой, тут есть чем подзаняться», «Давно не выпивали мы с Сальери»… Как-то он написал: «Я тут ходил снимать усталость, а на прогулке думал: блин, недолго мне еще осталось вот так неузнанным гулять». Теперь мир стал делиться на тех, кто узнает и кто не узнает.
И другое:
Ну нет, еще не все запущено
В стране Облома и Бедлама
Еще читают люди Пушкина,
Вишневского и Мандельштама.
* * *
У знаменитого писателя и довольно юного художника Владимира Войновича я как-то прикупил за пару копеек тройку картин. И очень при этом удивился, что у него масса автопортретов – больше полусотни. Владимир Николаевич уверял меня, что вовсе не из-за самовлюбленности: просто он является сам себе наиболее терпеливым натурщиком. Есть и живописный цикл «С Пушкиным и Гоголем на дружеской ноге», где писатель встречается с классиками. То они пьют, то мирно гуляют, то в карты режутся.
«Отражает ли этот цикл ваше мнение о собственной роли в русской литературе?» – аккуратно поинтересовался я. После очень долгой, совсем не по Станиславскому, паузы сказал, что нет, все-таки не отражает. Однако те, кто читал «Москву 2042», помнят, как у одного героя спросили: кто, мол, лучший в мире писатель? «Если отвечу, что я, это будет нескромно, – сказал писатель. – А если отвечу, что не я, это будет неправдой».
* * *
Приемный сын старинного друга Валентина Катаева, физик-теоретик с отменным чувством юмора рассказал мне о нем такой анекдот. Катаев с юности был о себе чрезвычайно высокого мнения. Приходит он однажды стричься к личному парикмахеру, тот говорит: вы, вроде, были в Италии. Ну, как?
– Да так. – И с Римским Папой встречались?
– Ну, Папа как Папа, ничего особенного.
– А как это было?
– Ну, вышел Папа, все встали на колени, а я только голову нагнул.
– И что он?
– Говорит: Господин Катаев, какой же дурак вас так ужасно постриг?
Кстати, Юрий Олеша, который тоже считал себя гением, терпеть не мог праздные разговоры. И однажды, когда парикмахер спросил, как его постричь, Юрий Карлович ответил: молча.
Этот же физик рассказал байку про Илью Эренбурга. Тот как-то поселился на две недели в гостиницу с двумя своими собаками. Другие постояльцы стали жаловаться, и к писателю нагрянул директор. Говорит: Илья Григорьевич, мы вас очень уважаем, но вот ваши собаки… Поймите, у нас же европейский отель.
– Единственное, что в вашем отеле европейского – это мои собаки! – ответил Эренбург.
* * *
 Из всех моих встреч с писателями, единственным человеком, относящимся к себе абсолютно без пафоса и не страдающего приступами мании величия, была Людмила Евгеньевна Улицкая. Помню, в интервью она мне сказала: «Я всегда была человеком, который на кухне моет посуду».
Из всех моих встреч с писателями, единственным человеком, относящимся к себе абсолютно без пафоса и не страдающего приступами мании величия, была Людмила Евгеньевна Улицкая. Помню, в интервью она мне сказала: «Я всегда была человеком, который на кухне моет посуду».
Но вскоре мания величия открылась во мне. А дело было так. На первом курсе филфака мне попался «Новый мир» с повестью «Сонечка» абсолютно тогда неизвестной Улицкой.
Потрясенный этой прозой, я всучил журнал своему профессору и умолил прочесть. И она тоже пришла в дикий восторг. Дальше завертелось: написал по Улицкой несколько курсовых, нашел ее в Москве. Чай пили, по столице катались, беседовали.
Наш университет имени Герцена, с подачи моего профессора, стал постоянно приглашать ее в Питер на лекции. Набивался огромный зал, и в начале действа профессор традиционно объявляла: а вот у нас присутствует уникальный человек, который открыл Улицкую! Мне приходилось вставать и кланяться, как китайский болванчик. И все громко хлопали.
Сначала я смеялся, а потом Людмила Евгеньевна получила кучу премий, издалась миллионными тиражами. Вот и думаю: может, я тоже гениальный, если саму Улицкую открыл?