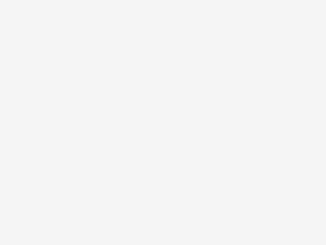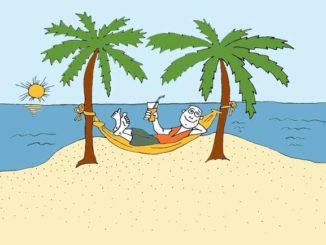После революции 1917 года религия играла большую роль в жизни русскоязычной диаспоры. Для многих она стала фактором культурной идентичности, инструментом сохранения языка и традиций. Поэтому религиозная литература стала одной из важных частей культуры русского зарубежья. Читая ее, можно лучше понять жизнь и мировоззрение эмигрантов.
После революции 1917 года религия играла большую роль в жизни русскоязычной диаспоры. Для многих она стала фактором культурной идентичности, инструментом сохранения языка и традиций. Поэтому религиозная литература стала одной из важных частей культуры русского зарубежья. Читая ее, можно лучше понять жизнь и мировоззрение эмигрантов.
Рассмотрим один пример. В 1933 году в Нью-Йорке священник Феофан Букетов опубликовал брошюру под названием «Доброе семя», рассказывающую о его пути в эмиграцию из России и о жизни православной общины Нью-Йорка. Автобиографическое эссе, открывающее сборник, является примером мистической духовности, характеризовавшей некоторых представителей эмиграции. По словам Букетова, во время гражданской войны, в 1919, находясь в Севастополе, он тяжело заболел тифом. В тифозной горячке священнику явилось видение Николая Чудотворца и алтаря храма в Нью-Йорке, где он оказался после эвакуации из Крыма.
В Америке Букетов занялся устроением жизни православной общины Нью-Йорка. Он рассказывает, в частности, о действующем в его храме хоре, а также об организации помощи сиротам. Текст оставляет двойственное впечатление: с одной стороны, в нем акцентируется роль православной церкви в эмиграции, с другой, рефреном проходит мысль, что эмигрантское сообщество постепенно утрачивает интерес к православию, становится более светским, интегрируясь в американскую жизнь.
Несмотря на растущую секуляризацию, воспоминания о дореволюционной Российской Империи продолжали играть большую роль в жизни эмигрантов. Эмигрантские издательства охотно публиковали репринты дореволюционной религиозной литературы, в особенности жизнеописания популярных подвижников девятнадцатого века, некоторые из которых были позднее причислены к лику святых, в том числе, Амвросия Оптинского, Иоанна Кронштадтского и Пелагии Дивеевской. Тенденция религиозной части эмигрантского сообщества переживать религию мистически отразилась и в восприятии этих новых святых, которым приписывались чудесные способности.
 Среди этих чудесных способностей особое место занимали пророчества о судьбах России. Например, в репринтном издании 1966 года дореволюционной книги Евгения Поселянина «Русские подвижники 19-го и 20-го века» был добавлен раздел, посвященный таким пророчествам. В нем утверждается, что Иоанн Кронштадтский – популярный подвижник, умерший в 1908 и канонизированный Русской православной церковью заграницей в 1964 – предсказал революцию, гражданскую войну и расстрел царской семьи. Однако, как заключает редактор, хотя «все, что пережила Россия и русские люди, есть праведная кара Божья за грехи», «Господь Вседержитель не оставит Россию в этом печальном и гибельном состоянии». В другой истории, рассказывающей о московском старце Алексее Мечеве, говорится, как в 1924 г. он напутствовал одного из покидавших СССР эмигрантов словами: «Вы не воображайте, что ваше дело спасать Россию, – это совсем не ваше дело, когда придет время, то Бог пошлет нужных людей, которые это дело сделают и уничтожат большевиков…»
Среди этих чудесных способностей особое место занимали пророчества о судьбах России. Например, в репринтном издании 1966 года дореволюционной книги Евгения Поселянина «Русские подвижники 19-го и 20-го века» был добавлен раздел, посвященный таким пророчествам. В нем утверждается, что Иоанн Кронштадтский – популярный подвижник, умерший в 1908 и канонизированный Русской православной церковью заграницей в 1964 – предсказал революцию, гражданскую войну и расстрел царской семьи. Однако, как заключает редактор, хотя «все, что пережила Россия и русские люди, есть праведная кара Божья за грехи», «Господь Вседержитель не оставит Россию в этом печальном и гибельном состоянии». В другой истории, рассказывающей о московском старце Алексее Мечеве, говорится, как в 1924 г. он напутствовал одного из покидавших СССР эмигрантов словами: «Вы не воображайте, что ваше дело спасать Россию, – это совсем не ваше дело, когда придет время, то Бог пошлет нужных людей, которые это дело сделают и уничтожат большевиков…»
Таким образом, пророчества о будущем России были пронизаны своеобразным оптимизмом, выражавшемся в ощущении божественного провидения и ожидании будущего возрождения страны. Подобные идеи, помогавшие эмигрантам в осмыслении происходящих событий и служившие источником надежды, вместе с тем, упрощали реальное положение дел. Октябрьская революция прочитывается здесь как приход в мир инфернальных сил, которые до поры до времени сдерживала духовная мощь православного самодержавия. Крах Российской Империи в этом контексте объяснялся исключительно заговором «безбожников и анархистов-безумцев». При этом игнорировались реальные проблемы, существовавшие в стране, вызовы, с которыми она оказалась неспособна справиться. Важные уроки истории не были извлечены, а решение сводилось к тому, что России нужен новый, более сильный, православный царь. Такой некритический взгляд подготовил почву для расцвета авторитаризма в постсоветской России.
 Впрочем, некоторые авторы, в том числе и вполне православные, осознавали проблемные стороны российского православия. К таковым проблемным сторонам относилось, например, чрезмерное сближение религии и государства и смещение акцентов в жизни Русской православной церкви с духовного измерения на мирское. Осознание этих проблем приводило к тому, что некоторые начинали искать альтернативы православию или по-новому интерпретировать саму православную традицию. Такие оригинальные интерпретации зачастую обращались к эзотеризму – комплексу идей, основанных на презумпции тайного знания, скрытого под поверхностью привычных форм религиозности.
Впрочем, некоторые авторы, в том числе и вполне православные, осознавали проблемные стороны российского православия. К таковым проблемным сторонам относилось, например, чрезмерное сближение религии и государства и смещение акцентов в жизни Русской православной церкви с духовного измерения на мирское. Осознание этих проблем приводило к тому, что некоторые начинали искать альтернативы православию или по-новому интерпретировать саму православную традицию. Такие оригинальные интерпретации зачастую обращались к эзотеризму – комплексу идей, основанных на презумпции тайного знания, скрытого под поверхностью привычных форм религиозности.
Эзотерические идеи были популярны в Российской Империи в первые десятилетия двадцатого века и существовали в форме спиритизма – опытов с вызовом духов умерших посредством медиумов, включавших демонстрацию летающих столов, таинственных звуков и т.п., – теософии – учения, созданного во второй половине девятнадцатого века Еленой Петровной Блаватской и позиционируемого как тайное знание индийских и тибетских духовных мастеров, – и оккультизма, представлявшего собой корпус «тайных наук», таких как астрология, алхимия и ритуальная магия. Популярность этих идей была особенно заметна в творческих кругах и нашла отражение, в том числе, в русской эмиграции.
Примером оригинальной интерпретации православия в эзотерическом ключе может служить книга «Апокалипсис пола», изданная в 1928 году в Шанхае Львом Гроссе. Поэт и сын российского дипломата, Гроссе вырос в Китае и оставался там в эмиграции до второй половины 1940-х гг. Его книга представляет собой смесь элементов православного богословия, русской религиозной философии и эзотерических идей. Формально, автор критикует эзотеризм с христианских позиций, утверждая, что эзотерическая мысль не достигает достаточно тонких, духовных материй, открытых в христианстве. Эзотеризм здесь предстает дохристианской языческой мудростью – не вполне отвергаемой, но и не достаточной.
 Тем не менее, сам Гроссе был явно знаком с эзотеризмом не по наслышке. Он не только активно использует эзотерическую лексику, упоминая о «психических телах» и «астральном плане» реальности, но и предлагает читателям проделать упражнения, которые могут открыть видения духовных миров и прошлых жизней – в прочтении Гроссе, христианство не противоречит учению о перерождении душ. Вот как выглядит одно из этих упражнений: «В тихой комнате, в темноте памятью сердца, вспоминая все важные переживания жизни, не трудно будет вспомнить свое детство и первые впечатления Земли в данном воплощении. Опыт надо производить шесть, семь раз. На шестой или седьмой раз вспоминающий ясно увидит образ своих предыдущих воплощений…»
Тем не менее, сам Гроссе был явно знаком с эзотеризмом не по наслышке. Он не только активно использует эзотерическую лексику, упоминая о «психических телах» и «астральном плане» реальности, но и предлагает читателям проделать упражнения, которые могут открыть видения духовных миров и прошлых жизней – в прочтении Гроссе, христианство не противоречит учению о перерождении душ. Вот как выглядит одно из этих упражнений: «В тихой комнате, в темноте памятью сердца, вспоминая все важные переживания жизни, не трудно будет вспомнить свое детство и первые впечатления Земли в данном воплощении. Опыт надо производить шесть, семь раз. На шестой или седьмой раз вспоминающий ясно увидит образ своих предыдущих воплощений…»
Религиозная жизнь русскоязычной эмиграции, разнообразная и сложная, таким образом далеко выходила за пределы банального выбора между православием и атеизмом. Религиозность диаспоры становилась плавильным котлом, куда попадали самые разные идеи, порождая уникальные и интересные комбинации. Эта сложность религиозной жизни русскоязычной эмиграции далеко еще не осмыслена ни исследователями, ни, тем более, в массовой культуре.