
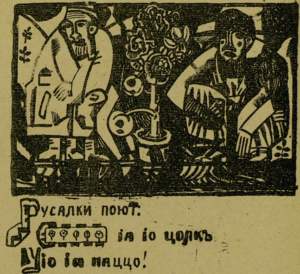 Поэта-футуриста Велимира Хлебникова, родившегося 140 лет назад, 28 октября (по новому стилю – 9 ноября) 1885 года, едва ли можно назвать популярным автором несмотря на его значительное влияние на современную литературу. Цитируя Владимира Маяковского, «Поэтическая слава Хлебникова неизмеримо меньше его значения. Всего из сотни читавших – пятьдесят называли его просто графоманом, сорок читали его для удовольствия и удивлялись, почему из этого ничего не получается, и только десять . . . знали и любили этого Колумба новых поэтических материков».
Поэта-футуриста Велимира Хлебникова, родившегося 140 лет назад, 28 октября (по новому стилю – 9 ноября) 1885 года, едва ли можно назвать популярным автором несмотря на его значительное влияние на современную литературу. Цитируя Владимира Маяковского, «Поэтическая слава Хлебникова неизмеримо меньше его значения. Всего из сотни читавших – пятьдесят называли его просто графоманом, сорок читали его для удовольствия и удивлялись, почему из этого ничего не получается, и только десять . . . знали и любили этого Колумба новых поэтических материков».
Главной характеристикой футуризма, литературного движения, к которому принадлежали Хлебников и Маяковский, была его радикальная ориентация на будущее. Эта устремленность в будущее, желающая отбросить все старое и ограничивающее, хорошо выражена в часто цитируемом литературном манифесте из сборника 1912 года «Пощечина общественному вкусу»: «Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности».
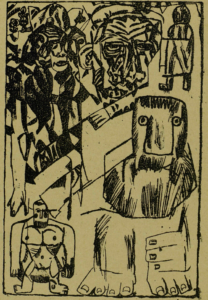 Тем интереснее, что Хлебников, хотя и был одним из ярких представителей русского футуризма, регулярно обращался к истории и мифологии. Его поэтический мир населяют ведьмы и русалки, славянские языческие боги и мифические герои. В значительной мере само творчество Хлебникова можно рассматривать как попытку создания современной мифологии, выраженной новыми, экспериментальными поэтическими средствами.
Тем интереснее, что Хлебников, хотя и был одним из ярких представителей русского футуризма, регулярно обращался к истории и мифологии. Его поэтический мир населяют ведьмы и русалки, славянские языческие боги и мифические герои. В значительной мере само творчество Хлебникова можно рассматривать как попытку создания современной мифологии, выраженной новыми, экспериментальными поэтическими средствами.
Примером такого мифотворчества является работа «Дети Выдры», опубликованная в 1914 году и рисующая эпическую картину, охватывающую историю от начала мира до современности. Выдра, упомянутая в названии, – мифический персонаж, «Матерь Мира», которая на заре истории «показывается на волнах с рыбой в зубах и задумчиво смотрит на свои дела». Последующие разделы произведения проводят читателя через различные эпохи, завершаясь рассуждениями о закономерностях истории.
Более конкретно об этих закономерностях Хлебников пишет в вышедшем в том же году «Изборнике». Он полагает, что периоды в 28 лет, сопоставимые с 28 днями лунного цикла, отвечают за смену поколений, при этом каждое следующее поколение вступает в конфликт с предыдущим. Примеры, которые приводит Хлебников, включают пары Мазепа – Петр I, Карамзин – Чаадаев, Пушкин – Победоносцев и др.
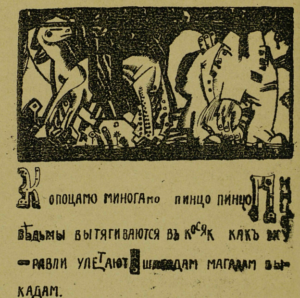 Конечно, теорию Хлебникова не назовешь научной, а в некоторых из выбранных им дат присутствуют натяжки. Вместе с тем, нельзя отказать ему в остроте поэтической интуиции: кажется, что Хлебникову здесь удается нащупать нечто реальное, почти пророческое. Например, хотя речь у него идет о датах рождения исторических фигур, современный читатель едва ли сможет избежать параллелей с 28 годами после начала горбачевской перестройки.
Конечно, теорию Хлебникова не назовешь научной, а в некоторых из выбранных им дат присутствуют натяжки. Вместе с тем, нельзя отказать ему в остроте поэтической интуиции: кажется, что Хлебникову здесь удается нащупать нечто реальное, почти пророческое. Например, хотя речь у него идет о датах рождения исторических фигур, современный читатель едва ли сможет избежать параллелей с 28 годами после начала горбачевской перестройки.
Цикл в 28 лет, описанный в «Изборнике», был не единственной попыткой Хлебникова найти математические закономерности в истории. Более детальную модель он излагает в книге «Учитель и ученик», вышедшей на два года раньше, в 1912. Здесь он описывает несколько гипотетических циклов, один из которых, 1383 года после падения королевства вандалов в 534, должен был завершиться в 1917. Указывая на этот год, Хлебников, за пять лет до краха монархии в России, задается вопросом: «Не следует ли ждать в 1917 падения государства?»
Интерес к закономерностям истории и ее циклическому характеру привел Хлебникова к теме, популярной в литературных кругах того времени – легенде об Атлантиде. В те годы древний материк настолько захватил воображение российской интеллигенции, что поэт Валерий Брюсов даже планировал организовать экспедицию в Африку с целью поиска его следов.
 Вот и у Хлебникова мы видим отражение этого интереса: поэма «Гибель Атлантиды», написанная в 1912 году, описывает катастрофу, уничтожившею цивилизацию атлантов: «О, город, гибель созерцающий, / Как на бойнях вол, – спокойно. / Валы гремят, как меч бряцающий, / Свирели ужаса достойно. / Погубят прежние утехи / Моря синие доспехи».
Вот и у Хлебникова мы видим отражение этого интереса: поэма «Гибель Атлантиды», написанная в 1912 году, описывает катастрофу, уничтожившею цивилизацию атлантов: «О, город, гибель созерцающий, / Как на бойнях вол, – спокойно. / Валы гремят, как меч бряцающий, / Свирели ужаса достойно. / Погубят прежние утехи / Моря синие доспехи».
Другой темой, увлекшей Хлебникова, было четырехмерное пространство. К ней поэт обращается в манифесте «Труба марсиан», отчасти навеянном научно-фантастическими работами Герберта Уэллса. Это эссе он начинает такими словами: «Мозг людей и доныне скачет на 3 ногах (3 оси места)! Мы приклеиваем возделывая мозг человечества, как пахари этому щенку 4-ю ногу, именно – ОСЬ ВРЕМЕНИ».
Как и в случае с Атлантидой, этот интерес не был случайным: на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков тема четырехмерного восприятия реальности как новой формы мышления, открывающей возможность выйти за пределы ограничений трехмерного пространства, пользовалась популярностью в литературе и философии.
Еще в 1884 году англичанин Эдвин Эбботт опубликовал книгу «Флатландия», в которой описывается вымышленная двумерная страна и то, как выглядела бы для ее жителей встреча с трехмерным существом. По мысли Эбботта, такая встреча была бы настоящим чудом. Например, поднявшись над плоскостью в третьем измерении, можно видеть сквозь двумерные стены и даже перемещаться сквозь них, а трехмерные объекты, двигаясь в трехмерном пространстве, могут по-разному проецироваться на плоскость – к примеру, цилиндр может превратиться из круга в прямоугольник.
В последующие десятилетия тема четырехмерного пространства неизменно привлекала внимание самой разной аудитории. Многие, в частности, видели к ней ключ к объяснению феноменов телепатии, ясновидения и общения с духами на спиритических сеансах. У Хлебникова, однако, измерение времени выступает прежде всего символом прогресса – новая, четырехмерная культура, ориентированная на движение вперед во времени, противопоставляется старой, традиционной культуре, в которой время как бы отсутствует, и все нацелено на самовоспроизведение, повторение прошлых образцов.
Современники знали Хлебникова как человека не от мира сего, целиком погруженного в поэтическое творчество. По воспоминаниям Маяковского, «Его пустая комната всегда была завалена тетрадями, листами и клочками, исписанными его мельчайшим почерком. Если случайность не подворачивала к этому времени издание какого-нибудь сборника и если кто-нибудь не вытягивал из вороха печатаемый листок – при поездках рукописями набивалась наволочка, на подушке спал путешествующий Хлебников, а потом терял подушку».
 Иными словами, Хлебников был гораздо больше заинтересован в самом процессе создания поэзии, чем в ее публикации или популяризации. Это было его осознанной позицией: в той же «Трубе марсиан» он делит людей на «изобретателей» и «приобретателей», на тех, кто творит, и тех, кто накапливает, эксплуатируя творческий потенциал изобретателей. В радикальном воображении Хлебникова, изобретатели, к которым поэт безусловно относил и себя, должны отделиться о приобретателей в отдельное государство, даже отдельную вселенную. Говоря словами самого поэта, «Млечный Путь изобретателей» должен отделиться от «Млечного Пути приобретателей».
Иными словами, Хлебников был гораздо больше заинтересован в самом процессе создания поэзии, чем в ее публикации или популяризации. Это было его осознанной позицией: в той же «Трубе марсиан» он делит людей на «изобретателей» и «приобретателей», на тех, кто творит, и тех, кто накапливает, эксплуатируя творческий потенциал изобретателей. В радикальном воображении Хлебникова, изобретатели, к которым поэт безусловно относил и себя, должны отделиться о приобретателей в отдельное государство, даже отдельную вселенную. Говоря словами самого поэта, «Млечный Путь изобретателей» должен отделиться от «Млечного Пути приобретателей».
Несмотря на принципиально анти-популярный характер, экспериментальность и незавершенность, работы Хлебникова прошли испытание временем и продолжают присутствовать в современной культуре. Например, оперу «Победа над Солнцем», к которой поэт написал пролог, по-прежнему ставят, пусть и нечасто, в российских и европейских театрах. Появляются и новые работы, вдохновленные его творчеством: так, в конце 2000-х композитор Владимир Мартынов создал музыкальный проект «Дети Выдры», отдающий должное фольклорным корням произведений Хлебникова посредством использования народных инструментов и тувинского горлового пения.
В творчестве Хлебникова сошлись темы необычные и вместе с тем ключевые для русской литературы начала двадцатого века: Атлантида и четырехмерное пространство, марсиане и языческие боги. Современному читателю они могут показаться странными, но в первые десятилетия двадцатого века мы можем найти их у самого широкого круга авторов, от Д. С. Мережковского до А. Н. Толстого. В этом смысле произведения Хлебникова являются важным памятником эпохи и образцом литературы авангарда начала двадцатого века.
