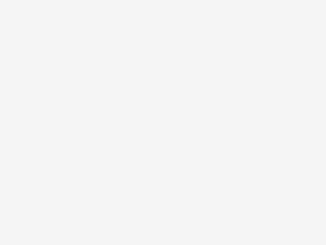Раз в году американская ассоциация писателей организует конференцию. В этом году писатели съезжались в Остин. И хотя никакой определенной связи между мной и писательской конференцией не прослеживалось, меня не покидало чувство, что гора пришла к Магомету, и что Магомет мог бы уж проехаться до центра города и разориться на входную плату, что я и сделала.
Раз в году американская ассоциация писателей организует конференцию. В этом году писатели съезжались в Остин. И хотя никакой определенной связи между мной и писательской конференцией не прослеживалось, меня не покидало чувство, что гора пришла к Магомету, и что Магомет мог бы уж проехаться до центра города и разориться на входную плату, что я и сделала.
Регистрация участников проходила в Центре Конвенций на 5-й улице. Стоя в очереди за именной карточкой и программкой, я рассматривала окружающих, как провинциальный родственник в гостях: с любопытством, чувством собственной неполноценности и чрезвычайной независимостью.
Такого количества бородатых мужчин я не видела со школьной скамьи. Впрочем, многие авторы брились начисто и стриглись наголо, возвращая писательский мир в равновесие. Женщины обозначали принадлежность к гильдии богемностью весенних нарядов и замысловатой обувью на плоской подошве.
– Чисто сработано, – подумала я, глянув на свои туфли, украшенные вязаными розанами.
Получив программу, я направилась в соседний отель, где проходили семинары. В лифт вместе со мной вошел человек с вихрами на макушке и гладким подбородком.
– Не писатель, – определила я.
– Вам какой этаж? – спросил неписатель.
Я ответила. Неписатель нажал кнопку. При этом борта его безобидного пиджака раздвинулись, обнаружив рубашку леопардовой расцветки.
– Поэт, – догадалась я.
В просторном губернаторском зале пустовали шестьсот стульев. На подиуме стоял стол под зеленым сукном. На столе – графин с водой. Следом за мной вошел мой попутчик по лифту и сел в соседнем ряду. Если бы по залу пролетела муха, то тишину можно было бы назвать звенящей, но кроме нас двоих никого не было.
Я не выдержала первой и поздоровалась.
– Хай! – с облегчением выдохнул поэт вместе со своей краткой биографией.
Минуту спустя мы склонялись над китайскими стихами, визуально складывавшимися в узор наподобие кроссворда и читавшимися как палиндром в четырех направлениях.
– Нет, вы скажите, как это переводить?! – отчаивался поэт.
(Нам предстоял семинар по литературному переводу).
– Невозможно! – сочувствовала я.
Узор иероглифов замыкал смысл, как чугунная ограда без калитки.
– Вы понимаете? – страдал поэт.
– Понимаю! – отзывалась я, как влюбленная Эхо.
Еще немного, и я сама оплакивала бы на его плече свой ненапечатанный перевод французского романа. К счастью, кто-то на трибуне постучал металлическим по стакану, требуя внимания.
К этому времени в зале собралась горстка интересующихся. На трибуне заседали три автора – бородатый, бритый и женщина в серьгах до плеч и толстых, увеличивающих глаза очках. Она выступила первой, популярно разъяснив, что перевод приносит пользу писателю, читателю и самому переводчику.
Нельзя сказать, чтобы я и сама не подозревала чего-то подобного, но было приятно услышать подтверждение своих домыслов из авторитетных уст.
Второй докладчик изящно извинился, если в чем-то ему придется повторить сказанное, и выступил в том духе, что перевод приносит пользу писателю, читателю и, без сомнения, самому переводчику.
Присутствовавшие смутно догадывались об этом, особенно после первого доклада. В зале согласно кивали. Некоторые делали пометки в блокнотах.
Третий докладчик сказал, что во многом разделяет мнение своих коллег, и что перевод приносит пользу писателю, читателю и, как ни странно, самому переводчику. Ему никто не возразил.
После выступлений было выделено время для ответов на вопросы. Докладчики еще немного поговорили о благотворности литературных переводов, и семинар закончился. Участники ринулись обмениваться визитками. Волна энтузиазма подбросила меня к бородатому автору, который, говорили, имел отношение к русской литературе.
– И-и, милая, даже не пытайтесь! – возразил он, жалостливо оглядывая меня. – В России по дешевке переводят, пиратствуют – как с ними конкурировать? Здесь тоже темные времена: искусствами не интересуются, читают мало. Гиблое дело!
– Но сами-то вы переводите?! – опешила я.
Автор лишь красноречиво улыбнулся. В его взгляде можно было прочесть «quod licet Jovi», не зная латыни. Я подала свою карточку и откланялась.
…Вечером, на полутемной веранде частного дома, расслабив воротники и вооружившись винными бокалами, утренние знакомые выглядели более гуманно. Из сада несся скрежет первых цикад, похожий на какофонию настраивающегося оркестра.
– Было это году в семьдесят каком-то, – вспоминал разомлевший Юпитер. – Приглашаю я ее в московский зоопарк…
– Вы были в Москве? – уточнила я.
– Хорошенькая такая, – продолжал Юпитер, по-прежнему не обращая внимания на вопросы, – но боялась меня страшно. Все кому-то звонила. А кому звонить-то? Известно – кому! И я сам стал бояться. Под конец мы так друг друга боялись – ни хрена не вышло!
– А вот когда я был в Москве… – присоединился к нам бритый докладчик.
– Как, и вы? – чуть не сказала я.
– Если у вас есть минутка, я расскажу вам историю.
В нашем распоряжении был целый вечер.
– Сто лет назад жили два брата. Один эмигрировал, другой нет, и между ними опустился железный занавес. У первого в Бостоне родился сын Алекс, у Алекса – тоже сын, то есть я. Когда режим потеплел, стали искать родственников. Оказалось, дедов брат в Москве назвал дочь Сашей – то же, что Алекс (не сговариваясь, заметьте), а у Саши – сын, мой ровесник. Подружились. Стал я наезжать в Москву, где и познакомился с поэтами-концептуалистами…
Похоже, эмигрантские обиды врачуются во втором поколении. Третье же, повинуясь гену, ответственному за загадочную душу, начинает тосковать и читать Достоевского.
– Извините, если помешала, но мне послышалась русская речь… – сказала подошедшая молодая женщина. На ней была красная юбка. Юпитер галантно пододвинул стул. Молодая женщина публиковала рассказы об иммиграции, в которых симпатичные русские слова заваливались в латинском строю курсивом, как пьяненькие: domovoi, dacha, zakuski.
Я отошла, чтобы пополнить те самые zakuski на своей тарелке, и вернулась. Беседа была в разгаре.
– Самое яркое пятно в «Анне Карениной» – плешь Вронского! – резвился бритый.
– …на русской экспозиции в Гуггенхайме… – говорила молодая женщина.
– Если объяснить на пальцах разницу между Маяковским и Мандельштамом… – рокотал Юпитер.
Но уже совсем стемнело, и увидеть на пальцах разницу между Маяковским и Мандельштамом не представлялось возможным. Гости разъезжались. На прощание кто-то троекратно облобызал меня в темноте, должно быть, на правах соотечественника.
В машине одновременно с поворотом ключа зажигания заработал плеер. Под звуки барочной кантаты фонари на 35-м шоссе разогнались до шестидесяти пяти миль в час.
– Прозрачное сопрано… – шепнуло вдруг страстно в правом ухе.
– Нечаянная причастность… – отозвалось в левом.
– Это ж надо было так ухандокаться за день, – пробормотала лично я.
Хорошо, что ночью, когда машин мало, город можно пересечь за двадцать минут.