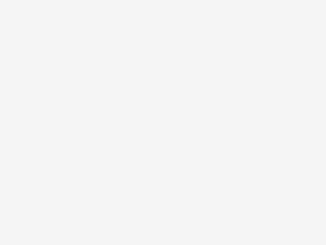Как нет предмета, который не подошёл бы еврею для фамилии, так нет предмета, который не подошел бы еврею для невроза.
Как нет предмета, который не подошёл бы еврею для фамилии, так нет предмета, который не подошел бы еврею для невроза.
Возьмём, к примеру, наше кухонное окно. Казалось бы, всё просто: прямоугольник света или тьмы, то светится,то меркнет, как и мы, в простой и белой раме, и на нём засов кремон есть с человеческим лицом.
Но на окне нет штор. Нет занавесок, нет гардин, портьер, ни жалюзи, ни затемненной плёнки, ничего. Казалось бы, ну в чём проблема? Нет, так повесьте что-нибудь и всё! Но это невозможно для нашего окна — причина у нас та же, что и у других людей: мы можем всё и мы не можем всё в зависимости оттого, куда мы смотрим, какой у нас обзор.
Дело в том, что окно наше выходит во двор, оттуда виден сквер у церкви Нотр-Дам (одной из многих парижских Нотр-Дам, я не скажу какой, вы сами после поймёте, почему), а за сквером парижские крыши и небо, по которому как будто чьи-то дети то и дело случайно разливают акварель. Я не могу закрыть это занавесками, этот сквер, эту церковь, это переливающееся нежностью небо. Это всё равно, что одеть Венеру Милосскую.
Кстати, рядом с окном висит плакат, на котором Шон Коннери в роли Джеймса Бонда наливает водку в бокал для мартини, при этом так многообещающе мне улыбаясь, что я невольно верю: когда-нибудь он эту водку всё-таки мне нальёт. Я могу смотреть на розовеющий Париж и наливающего Джеймса бесконечно.
Но и соседи тоже могут. Наше окно для них — маленький экран старомодного телевизора, в котором разыгрывается сериал жизни семейства Якубсфельд: кто угодно может видеть, как я сама с собой разговариваю со всем пристрастием совершенно нормальной сумасшедшей. Как ем солёные огурцы из банки.
Все, кроме последнего, который я деликатно оставляю мужу, — знак любви, зелёный в пупырышках, но знак. Кто угодно может видеть меня в роли ночной жрицы перед холодильником. Кто угодно может увидеть, как отчаянно возмущается Розочка из-за того, что я не разрешаю есть суп руками, как я также в отчаянии стучу ладонью по столу, а Беляночка упрекает меня: «Ну вот из-за тебя Розочка теперь грустная».
Или как во время ужина эта же Беляночка пытается незаметно положить ноги, локти и голову на стол и горько обижается, когда её за это отсылают из-за стола. Кто угодно может видеть, как мы с мужем ссоримся, и моё выражение лица при этом. Если бы маска сарказма убивала, меня бы уже обвинили в преступлениях против человечества. И как мы миримся. Соседи это всё тоже могут видеть.
В кухне темно. Я подхожу к окну, как к рампе пустой сцены, и выглядываю в вечерний сумрак, как в зрительный зал, где никого нет.
Двор, в который выходит наше окно, невелик, только и места есть, что для клумбы и пары деревьев. С двух сторон он окружён высокими стенами: слева восточное крыло нашего дома, справа — окна соседнего, а между ними — деревья церковного сквера. Ещё дальше крыши, небо, акварель.
К моему удивлению и облегчению большинство окон темны, закрыты ставнями: соседи тоже, видно, не хотят, чтобы кто-то видел, как они сами с собой разговаривают. Только одно окно светится жёлтым светом, прямо напротив нашего, в восточном крыле. Там, в этом окне, я вижу просто обставленную кухню, настолько просто, что вид у неё совсем нежилой: ни одного украшения на стенах или на холодильнике, ни одного предмета на рабочей поверхности стола.
На окнах нет занавесок. У окна стоит плита, на плите стоит большая кастрюля. Молодой человек в тёмно-синей футболке, с коротко подстриженными светлыми волосами мешает содержимое кастрюли деревянной ложкой, изредка пробует и вновь мешает. Иногда он склоняется над телефоном, который лежит рядом.
В кухню входит девушка. У неё длинные тёмные волосы, волнами ниспадающие на узкую спину, на ней такая же тёмно-синяя футболка. Девушка разговаривает и ходит по кухне. Она и не думает помогать молодому человеку, она просто двигается и говорит. Время от времени она прислоняется к холодильнику или к краю стола и застывает на несколько минут, всё её тело, все её жесты полны грации и — даже я вижу через наше окно, двор, сумрак и их окно — какой-то новой неловкости. Нечто похожее на нерешительность и ожидание. Молодой человек что-то отвечает ей, не переставая помешивать и пробовать. Девушка уходит.
Молодой человек продолжает мешать. Я продолжаю стоять у окна: я начинаю подозревать, что наше окно — не самое интересное в этом дворе, и то, как я ем солёные огурцы из банки, тоже не самое занимательное из того, что здесь происходит.
Девушка вновь появляется на кухне. Сначала мне кажется, что она переоделась: в лёгкий, тонкий телесного цвета гольфик, плотно облегающий её фигуру. Тёмные, как вечерняя волна, волосы струятся по спине, она по-прежнему говорит и двигается, но по-другому: как будто каждое движение, каждое слово хрупки, драгоценны и безумно опасны, могут разбиться и одновременно разбить всё вдребезги в любой момент. Она трепещет и дрожит, она неумолима. Девушка с тёмными волосами не может найти себе места, замолкает, останавливается посреди кухни, и линии её плеч, локтей, лопаток особенно, всё это — закругленные углы, как печенье каллисон.
Когда-то и я была такой, точь-в-точь: молодой, с волосами, как море в безлунную ночь, с плечами-углами и знала о жизни только по книгам. Теперь мои плечи ни круче, ни шире, шрамами крыты — мне сорок четыре. Я стала щедрее, я стала сильнее, я стала бледнее, я стала седее: время проходит, выходит луна, море волос серебрит мне она.
И тут я понимаю, что девушка в окне не переоделась. Нет. Она разделась. Она говорит что-то, опустив голову, потом поворачивается и выходит из кухни. Молодой человек ещё некоторое время мешает, пробует, опять мешает, потом аккуратно выключает огонь под кастрюлей, ищет взглядом, куда положить ложку, отрывает кусок бумажного полотенца, складывает его пополам и кладёт ложку на него, затем аккуратно складывает кухонное полотенце, вешает его на спинку стула и выходит из кухни, по дороге стаскивая с себя футболку.
Точно, наше окно не самое интересное в этом доме.
Неожиданно в нашей кухне включается свет.
— Что ты здесь делаешь в темноте, дорогая? — Ариэль стоит в дверях.
— Смотрю в окно.
— Давай лучше выпьем, я тебе про Чингисхана расскажу.
Говорят, что счастливые пары со временем становятся похожи друг на друга: теперь Ариэль, как и я, бродит ночью по квартире с мыслями об алкоголе и великих покойниках. Он открывает бутылку анжуйского и наливает рубиновое вино в бокалы богемского хрусталя. Чингисхан, оказывается, был не только жестоким и кровавым военачальником, но и мудрым политическим лидером, во многом обогнавшим свое время. За спиной Ариэля я вижу пустую соседскую кухню, они забыли выключить свет.
Чингисхана человечество помнит за тот ужас, который он внушал, а не за его слова: «Если ты не можешь контролировать свой гнев, как ты можешь контролировать своего врага?» Ричарда III помнят как подозреваемого в убийстве своих племянников, а не как того, кто первым сказал, что каждый человек имеет право искать своё счастье.
— Интересно, какими глазами современные политики посмотрели бы на Шарля Мартеля, остановившего вторжение мавров, или на Яна Собеского, спасшего Европу от нашествия оттоманов? — Ариэль подливает мне анжуйского в богемское: он знает, как заинтриговать и напоить девушку.
Я улыбаюсь, беру бокал и в этот момент, случайно бросив взгляд за его плечо, вижу, что соседи вернулись в кухню. Придурки, у вас же занавесок нет на кухне, что же вы делаете! Что они делают, впрочем, очевидно, и мне вдруг становится необыкновенно важно, чтобы их никто не увидел. Мне хочется их защитить, эту пару влюблённых нежизнеспособных романтиков, которые не повесили занавески на кухонные окна. Если сейчас кто-то из соседей лениво выглянет в окно…
— А что интересно, так это то, что у Собеского армия была гораздо меньше, — Ариэль задумчиво рассматривает свой бокал. — Как ты, лидер, ведёшь людей в бой против превосходящего по численности противника? Что ты им говоришь?
— Что ты умрёшь ради них, — отвечаю я, получаю восхищенный взгляд мужа и честно признаюсь: — Это не я, это Бернард Корнуэлл сказал.
Соседи потеряли всякое благоразумие. Их нужно спасать.
— А ты знаешь, что у Собеского была гусария? — говорю я. — Польская тяжёлая кавалерия. Лучшая в Европе. Ты знаешь, как они атаковали?
Я очень надеюсь: если кто-то из соседей сейчас выглянет в окно, они посмотрят на наше, а не на то, напротив, то, которое нужно оставить быть между ночью и луной, повисшее над городом окно двух безумцев, которые любят друг друга, готовят еду и не думают про занавески. Я делаю, что могу. Я ставлю бокал на стол, встаю и показываю мужу в действии, как атаковала польская тяжёлая кавалерия — копья, ленты, латы, закатанные рукава командиров и крылья за плечами. Ариэль пьёт вино, улыбается и смотрит на меня, его лицо устало и расслабленно, а глаза полны звёзд, тех самых звёзд, которых в больших городах ночью не видно. Нам говорят, что это из-за загрязнения воздуха. Не без этого, конечно. Но я думаю, что звёзды ночного неба больших городов предпочитают проводить время в глазах романтиков, им там лучше.
Утром я веду Беляночку в школу. Звучит это «я веду Беляночку в школу» гораздо более чинно и организованно, чем на самом деле происходит. В двух словах: это не то, что можно выставить в «Инстаграм», совсем не то. Мы обычно вываливаемся в коридор ре-де-шоссе в пылу выяснений, почему Беляночка прыгала в лифте, а Розочка лизала зеркало. Мы часто опаздываем, и пока я бегаю по коридору и ловлю Розочку, которая не хочет садиться в коляску, а Беляночка описывает мне в деталях список желаемых ею подарков на день рождения, поминутно проверяя меня на внимательность, я нервничаю и чертыхаюсь себе под нос. В таком виде, растрёпанные, запыхавшиеся, мы выскакиваем из подъезда и несёмся вниз по улице.
Обычно. Но сегодня у дверей подъезда стоит Сильвия, наша консьержка, с месье Грасье, нашим соседом. О Сильвии у нас в доме ходят страшные слухи: что она занимается взяточничеством, вымогательством, ленью и антисемитизмом. Как любой человек, о котором говорят много плохого, при встрече Сильвия поражает своим здравым смыслом и приятной манерой общения. О месье Грасье слухи ходят ещё хуже — говорят, он чудовищно богат.
И сегодня утром эти два персонажа местного фольклора стоят на свежевымытом тротуаре напротив нашего дома, и головы их склонены друг к другу с такой упоительной сладостью, что сразу становится ясно: они кого-то обсуждают.
Сильвия видит меня и понимает, что я понимаю, что они сплетничают, поэтому она улыбается мне смущённой и заговорщицкой улыбкой одновременно.
— Мы говорим о Леблан.
Лучший способ расправиться со свидетелями — это сделать их соучастниками. Я это тоже понимаю, поэтому продолжаю двигаться, в качестве ответа учтиво подняв бровь.
— Месье Леблан и мадам Зейда, которые недавно въехали, их квартира в восточном крыле дома, их кухонное окно выходит прямо на ваше,— поясняет консьержка.
— Это просто безобразие, что они вытворяют, — взрывается месье Грасье. — У людей в наши дни нет ни стыда, ни совести, ни каких-либо понятий!
Блин горелый, их таки кто-то заметил, этих счастливых придурков на подоконнике! Я останавливаюсь и спрашиваю с видимой небрежностью:
— А что случилось?
Сильвия хихикает в ответ.
— Это прямо неудобно обсуждать! Но они же должны подумать о других людях. Так же нельзя жить, есть элементарное уважение к соседям, к дому, к обществу.
— Вы знаете, что? Это их окно, это просто порнография, вот что я вам скажу! — опять возмущается месье Грасье.
— Ну я бы не сказала, — сладострастно улыбается Сильвия. — Но это однозначно неприемлемо! Как вы считаете, каково мне за всем этим наблюдать? Что я должна чувствовать?
Боже, а причём тут Сильвия? Неужели она когда-то с этим месье Лебланом?.. Да нет, она мать семейства и старше меня!
— Да, как будто вам больше делать нечего! — продолжает месье Грасье. — А я это всё должен нюхать!
Какое отношение консьержка Сильвия может иметь к паре влюблённых на подоконнике становится внезапно не так интересно, как то, что там нюхает месье Грасье. И в школу мы точно опоздали, но это уже неважно: меня теперь не сдвинуть с места.
— Да что же происходит? — не выдерживаю я и получаю полный счастливого удовлетворения взгляд Сильвии. С улыбкой и гордостью примы, которую вызывают на бис, она объявляет:
— Они, видите ли, поменяли раму окна! Поставили современное, пластиковое, модное. Ужас, одним словом. А у нас, между прочим, в уставе дома чёрным по белому и большими буквами написано, что оконные рамы должны быть деревянные, в духе эпохи, в соответствии с духом и стилем всего здания! Представляете, как теперь выглядит наш дом с этим пластиковым бельмом? Позор, и всё. Это, простите меня, свинство, делать такое с приличным окном!
— Позор! — заявляет месье Грасье. — А эти запахи? Они же постоянно что-то такое у себя там варят, у меня весь салон пропах их стряпнёй!
— А что они варят? Чем пахнет? — живо интересуется Сильвия.
— Уф, пахнет плохо! То что-то с карри, а у меня старинные кресла со старинной обивкой, представляете, как впитывает? А то иногда они за полночь ягнёнка готовят с травами, я знаю, потому что всё это идет ко мне. И я иногда просыпаюсь ночью, потому что в квартире пахнет ягнёнком. Вы представляете себе этот диссонанс: в квартире ночью пахнет соседским ягнёнком?
— В полночь? — Сильвия всплёскивает руками. — Кто же ягнёнка ночью готовит? Ведь ягнёнка приготовить — это не пять минут. Его же обжарить нужно, потом в духовке ещё два часа как минимум…
— Ну что вы такое говорите, можно сделать а ля буланжер, тогда всего час. А если духовка с обдувом, так ещё быстрее…
— Ой, я не знаю, месье Грасье, как вам, а мне не нравится духовка с обдувом. Вкус не тот. Вы понимаете, о чём я?
Практически любого француза можно мгновенно вывести из строя, действия, дискуссии, из чего угодно, заговорив с ним о еде. Этим простым способом можно выиграть войну, битву, спор, пройти вне очереди. Поэтому я знаю, что те двое в кухонном окне на некоторое время в безопасности. Я быстро прощаюсь с консьержкой и соседом, и мы с детьми бежим в школу по узкому, как морда борзой, тротуару, к реке, прямо в утреннее солнце, которое, поднимаясь, заливает всё перед собой золотым, оранжевым, розовым светом, словно плавленое золото, полыхая, разлилось по крышам, фасадам и окнам. От холодного, пронзительного ветра перехватывает горло и глаза наполняются слезами. Да, от ветра, конечно, должно быть, от него. Придурки, думаю я, какие же вы придурки.
Елена Якубсфельд
Встреча с Еленой Якобсфельд состоится в Хьюстоне 24 апреля в 6 часов вечера в Unitarian Fellowship of Houston, в программе «Белая черешня» будут исполнены еврейские, украинские, французские песни и русские романсы.