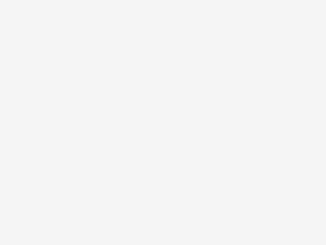Иной раз смотришь на человека – и сразу понимаешь, как и почему он стал звездой. С Еленой Камбуровой совсем другая история. Слава обычно обходит таких, как она – нерасторопных, не кидающих щедрые жертвы на алтарь успеха. Но сила её дара такова, что общие законы не действуют. Впрочем, слава – не самое подходящее слово. Камбурова – это Имя. У неё несмелый взгдяд ребенка. Пластика упрятанной в клетку большой птицы. Её голос способен сделать одухотворенным любое лицо на экране. Её называют русской Эдит Пиаф.
Иной раз смотришь на человека – и сразу понимаешь, как и почему он стал звездой. С Еленой Камбуровой совсем другая история. Слава обычно обходит таких, как она – нерасторопных, не кидающих щедрые жертвы на алтарь успеха. Но сила её дара такова, что общие законы не действуют. Впрочем, слава – не самое подходящее слово. Камбурова – это Имя. У неё несмелый взгдяд ребенка. Пластика упрятанной в клетку большой птицы. Её голос способен сделать одухотворенным любое лицо на экране. Её называют русской Эдит Пиаф.
– Говорят, Вы – женщина не от мира сего. Как у Вас обстоят дела с бытом, с житейскими заботами?
– Очевидно, кому-то и может показаться, что я не от мира сего. Я не прожила такую жизнь, какая обычно бывает у женщин: семья, домашние хлопоты, дети. Хотя был и первый муж, и второй муж…
– Вы, действительно, в детстве были очень застенчивы? Как это совмещалось с призванием актрисы?
– Моя робость в какой-то степени сохранилась до сих пор. И я по жизни её преодолеваю. У меня с детства аллергия на массовость. Я не люблю, когда вокруг много людей. Поэтому считаю себя камерной певицей: самый большой зал – тысяча двести мест.
– А были случаи, когда Ваша робость становилась причиной провала?
– Безусловно. В детстве я практически не выходила на сцену. И в первый раз решилась выступить сольно в десятом классе. Задумала выйти необычно – прямо из зала. Да ещё попросила, чтоб меня в конце программы поставили. Это был провал провалов! Если такой эпизод показать в кино, он был бы ультракомедийным. Девочка хочет, танцуя, пройти сквозь зал, на первом же шаге опрокидывается, падает, потом, наконец, проталкивается через своих сверстников на сцену, открывает рот, пытается петь, а звук не идёт. Она перебегает на другую сторону – голоса все равно нет. В общем, погримасничала и убежала. Волна волнения поглотила меня совершенно. Зрители смеялись, а я, даже не взяв шубу, побежала домой в чем была. И три дня не ходила в школу. Вот такой первый экзамен, который я абсолютно не выдержала.
– Долго потом не решались повторить этот эксперимент?
– Года два. Но внутренний голос – всё-таки очень серьезная штука. Он говорит: «Иди!» – и тут ничего не поделаешь. Уже учась в техническом институте, я начала его все сильнее слышать.
– А на кого Вы учились?
– В Киеве я поступила в Институт легкой промышленности, собиралась стать инженером по обуви. Но, закончив два курса, подала заявление об уходе. Мистика, но с тех пор с обувью у меня происходят невероятные истории. Я заказывала обувь для сцены, а мне делали её на полтора размера меньше. Снова заказывала – и вновь получалось что-то совершенно неподходящее. Фантастика! Очень многих мастеров перепробовала – результат одинаковый. Я уже могу делать музей своей непригодной обуви. Какой только нет – даже из кожи карпа… И вся стоит без дела.
– Наверное, обувь мстит за то, что Вы её отвергли. Но куда же привел Вас внутренний голос?
– Я пришла в Киевский театральный институт, и меня принял светлой памяти человек – Михаил Верхацский. Я почитала ему и на русском, и на украинском языке. Меня потрясло, что он не только нашел время выслушать, но и сказал такие слова, которые дали мне терпение и мужество на годы вперед. Потом я оказалась в Москве, в училище циркового и эстрадного искусства.
– Чему Вас научил цирк? По канату можете пройти?
– Нет. Могу только жонглировать, и то лишь тремя предметами. Я там не столько училась, сколько наблюдала, как работают настоящие циркачи. С уроков вокала сбегала: меня вели как колоратурное сопрано, которым я не была. После тех уроков разговаривать не могла. К тому же я считала, что в будущем я петь не стану. Я видела себя в театре, в драме. Мой первый муж был педагогом того же училища – музыку у нас преподавал, но я не училась, как следует.
– Тем не менее Вы вскоре стали известны именно как певица.
– Удача повернулась ко мне лицом, хотя я этого не осознавала. Я записала на радиостанции «Юность» сразу десять песен на стихи Новеллы Матвеевой. А тогда эту радиостанцию слушали буквально все – у меня моментально образовалась молодая аудитория. Студенческая молодежь очень интересовалась такой песней. И если бы у нас в стране не было жестокой цензуры, у меня, наверное, по-другому бы сложилась жизнь. Но как только возникла перспектива гастролей – всё уперлось в мой репертуар. На комиссии Минкульта исполнитель русских песен Иван Суржиков кричал: «Так начиналась Чехословакия! Там молодежь тоже пела какие-то свои песни. Видите, чем это закончилось?!» И у меня началась полуподпольная жизнь.
– Интересно, а как в Ваших глазах выглядят наши сегодняшние эстрадные звезды?
– Наша эстрада, мягко говоря… Всё, что не попса, мне интересно. Я так смело говорю о попсе, потому что я её знаю. Это мазохизм своего рода, но я выслушала весь концерт на Манежной площади, посвящённый Пушкину. Со слезами смотрела: мне было так обидно за Пушкина, за всю русскую культуру. Будто саранча пришла и поела поле, которое выращивалось годами.
– А Пугачева, которая поёт Пастернака?
– Я это не приемлю. Ведь есть так много других стихов, в которых можно выразить подобный род чувственности! Но особенно мне было обидно слушать как по всей стране София Ротару распевала «Только этого мало» на стихи Арсения Тарковского. Одни из самых тонких и пронзительных строчек! А получился настолько противоположный результат. Можно по-разному интерпретировать стихи, но не так чтобы их взять и попросту уничтожить.
– Вас никогда не посещало искушение сделать что-то более коммерческое, выйти в массы? Поёт же бывшая джазовая певица Лариса Долина про «погоду в доме», и многим нравится.
– Были моменты, когда очень известный композитор предлагал сотрудничество, хотел, чтобы я пела его песни. Говорил: «Вы же понимаете, что я Вас подниму». Или в период моего тяжелейшего положения в Москонцерте, главный литредактор советовала: «У Вас сейчас есть отличная возможность выступить в Колонном зале». Речь шла о вечере именитого поэта, главного редактора «Огонька». Но я отказывалась. Понимаете, я не могу: есть вещи, через которые не переступишь. То же самое – участие в передачах «Песня года». Меня раньше много раз звали. Последние лет десять уже, слава богу, не зовут. Я вижу, что климат совершенно не мой – зачем же я буду там появляться? Хотя это, безусловно, придаёт популярности.
– А от кого Вы получаете удары? От зрителей?
– Бывало, что и от зрителей получала такие удары страшные! Это сейчас, приезжая на гастроли, я уверена, что придут те, кто меня знает. А когда начинала, жанр был никому не известен. Я пела: «Я такое дерево, я такое дерево, я такое дерево», исполняла баллады, сложные для неподготовленного слушателя произведения. И видела, что студенческая молодежь носит меня на руках, но как только я попадаю в обычный эстрадный концерт, я – белая ворона.
– Чиновники от культуры не упрекали, что Вы «далеки от народа»?
– Как-то раз на одном из концертов перед шахтерами, для того чтоб перекинуть хоть какой-то мостик к вниманию полупьяного зала, я сказала фразу: «Песни – очень хрупкие существа. Они подобны цветам: если их воткнуть в песок – они вянут». В зале действительно поменялась атмосфера, руководитель клуба говорил мне очень теплые слова, даже взял адрес. И прислал открытку. Она меня позже спасла, потому что местный администратор на меня донесла: написала, что я оскорбляю рабочий класс. Мол, на такой почве песни не взойдут. И на полном серьёзе это рассматривалось в партийных инстанциях. Я предъявила письмо директора клуба. Он писал, что тот концерт до сих пор вспоминает. И таких случаев было много. Саратовский обком тоже углядел «антисоветские настроения» в моём репертуаре. Письмо пошло в Министерство культуры – и у меня наступили тяжелейшие времена в Москонцерте. К счастью, тогда мне предложили сниматься в кино.
– А свою музыкальную работу в кино Вы любите?
– Больше всего мне запомнились истории с «Рабой любви» и «Дульсинеей Тобосской». Ну и, может быть, «Приключения Электроника».
– Так это ваш голос?!
– Конечно – я там за мальчика пела: «До чего дошёл прогресс». Я и сегодня так спою: у меня этот тембр совершенно не ушёл. В «Ералаше» заставка тоже моя – «Мальчишки и девчонки…» Я тогда случайно оказалась на студии Горького, записывала другую песню, а рядом ребята хором пытались спеть для «Ералаша». Редактору всё не нравилось, и меня попросили: «Покажите им немножко, чтоб получилось позадорней». В итоге решили оставить мой вариант.
Ну а с «Рабой любви» получилось так: по-моему, месяц Никита Михалков мучился с двумя музыкальными фрагментами. Они, действительно, очень серьезные и решают историю всего фильма. Искали человека, который записал бы вокал. Чуть ли не пятнадцать певцов перебрали – и женские, и мужские голоса. И, прямо как в сказке о “Золушке”, наконец вспомнили обо мне.
Меня потрясло, как работал на записи Михалков. Я первый раз такое видела. Обычно режисcер сидит себе в микшерской. А он, затаив дыхание, стоял рядом, когда я пела, и, казалось, внутренне проживал всё вместе со мной. Сделали два дубля, я хотела перепеть ещё раз – умоляла просто. Мне сказали: «Нет, хватит. Это то, что надо».
– А «Дульсинея Тобосская» чем запомнилась?
– Там очень важно было, чтобы получилось похоже на голос героини. Мы к Гладкову приходили вместе с Гундаревой. Один раз даже вместе попели. Она прекрасная актриса, и, по-моему, у нас всё совпало. Запись прошла очень легко. В другом фильме, помню, писалась песня Алексея Рыбникова – её пела девочка. В одном месте ей нужно было подняться на полтора тона вверх, а диапазона от волнения не хватало. И меня попросили помочь. Вот тут, действительно, пришлось трудно, потому что надо было на сто процентов попасть в её тембр – спеть две строчки, чтоб моё вмешательство осталось незаметным.
– Вижу, у Вас висит портрет Фаины Георгиевны Раневской. И знаю, что Вы были знакомы. Вас связывала дружба или только знакомство?
– Я считаю, что она одарила меня радостью общения с ней. Я верю в чудеса, и моя встреча с Раневской – одно из таких чудес. На радиостанции «Юность» я прочитала горьковскую «Нунчу», Фаина Георгиевна услышала программу – и тут же написала письмо, которое начиналось словами «Я никогда не писала на радио». Мне долгие годы не приходило в голову ни позвонить, ни написать ей. И опять же случай привел меня в её дом. И уже все последние годы я много бывала у неё. Когда Фаины Георгиевны не стало, я пришла в её опустевшую квартиру и увидела, что в Таганрог, где решили сделать музей, увезли только парадную мебель. А основные предметы, которыми она постоянно пользовалась, остались. И я забрала три вещи. Вот мы сидим на тахте, на которой она спала все последние годы жизни. Она была ей очень неудобна: вся сплошь с выбоинами, маленькая, не по росту Раневской. Сейчас я привела её в порядок, а Фаина Георгиевна подкладывала подушки, чтобы её выровнять. Тахта принадлежала когда-то Павле Леонтьевне Вульф, театральной звезде начала века, которая, можно сказать, поставила Раневскую на путь истинный. И в память о ней Раневская спала только на этой тахте. В другой комнате у меня стоит журнальный столик Фаины Геориевны, на котором у неё обязательно лежал Пушкин. Кстати, когда я давала ей книги почитать, она всегда подписывала их: «Читала. Раневская. Спасибо».
– Вы как-то сказали фразу: «В меня влюбляются женщины». Что это значит?
– Я сама не знаю. Я совершенно не по той части. Может, так происходит потому, что женщина все-таки более тонкое существо, как мне кажется. Они более восприимчивы и как зрители. Не знаю, что они видят во мне, но, действительно, были женщины, которые серьезно увлекались – писали мне любовные письма, самые настоящие.
– Насколько я понимаю, сейчас Вы живете одна. Вы легко переносите одиночество или для Вас оно все-таки – ноша?
– Очень легко. Сейчас у меня нет недостатка общения: большой круг друзей. Я не чувствую себя одинокой. Хотя знаю, что такое тоска одиночества. Это то, что происходило с Фаиной Раневской, которая всё время писала на бумажках слова «тоска смертная», когда ушли все её друзья, ровесники. Даже мои приходы не спасали: я не могла ей заменить Качалова. Но у меня подобного состояния пока не было.