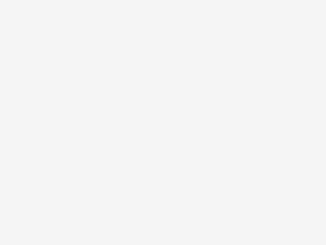Россия и я». С согласия автора мы начинаем печатать фрагменты из этой книги
Россия и я». С согласия автора мы начинаем печатать фрагменты из этой книгиМы доехали до Хьюстона, узнав об этом из дорожного объявления, хотя вид из окон автомобиля ничем не подтверждал этого въезда, стало, пожалуй, даже пустынней.
Кое-где появились натыканные, одиноко стоящие небоскребы и дома, разделенные далями и пустыми пространствами от других таких же одиночек, от других кучек зеркальных домов-вкрапленников, то там, то там торчавших с нейлоновыми афишами на голых палках. Многие здания были без окон и дверей, лишь с обозначенными воротами – параллелепипеды, трапеции, кубы, квадраты с прямоугольными крышами.
Дорога поднялась на бетонные ноги, и электрические буквы засверкали пачками.
Гигантский, космический аэродром. Где город? Где люди? Никакой отдаленной части ни Петербурга, ни Рима, ни Москвы не возникает; никаких сравнений с виденными городами.
Возник на горизонте Нью-Йорк созвездием небоскребностей; но тут же исчез за изгибами автострады, которая пошла завиваясь, завихряясь, круглиться и огибать кольцами, полукольцами, дугами большие склады, сараи с вывесками, сараи без вывесок, открытости, пустынности с поставленными на них рядами машин, обвешанных шатрами мелких флажков, и не обвешанных; с новенькими рядами машин и уже поездившими; пространства с уложенными трубами, канистрами, нефтяными качалками. Среди крыш мелких жилых кварталов виднелись пальмы.
Нет, это не город?! А что это? Где же мы оказались? Сейчас взлетим. А как жить будем?
Отель, нам предназначенный, стоял непосредственно на автостраде. Среди пустынного окружения стоял амбар, как бабушкина деревенская рига, где молотили пшеницу и лён, однако этот амбар украшала нейлоновая вывеска со скачущим ковбоем и каплевидный бассейн с ярко-синей водой, окруженные пальмами и шезлонгами, на которых ни один человек не сидел, не лежал, не стоял.
Походили вокруг бассейна – нет ни дорожек, ни тропинок для перехода к другим виднеющимся строениям. С другой стороны отель уткнулся в безумно несущуюся автостраду.
Пока дети купались, я взглянула на опрокинутое безвоздушное пространство – бесконечный безоблачный купол, как в Голодной Степи, где я определяла коэффициент фильтрации почвы на первой геологической практике. Там был сухой, звенящий воздух с прыгающими миражами, с воздушными отражениями, а тут – тропически-влажный, туманно-липкий. Океан Мексиканского залива, как бы просачиваясь по тончайшим капиллярам, повисал в атмосфере и как будто растворялся в тебе.
Через неделю Яша снял дом на улице Raritan, по слухам расположенный в хорошем буржуазном районе.
Бабушкины Подъёлки – Париж в сравнении с этой улицей, по темпу, по действиям, по происходящему, по жизненности сплетен, тайн, обволакиваний!
Тут – ряды приземистых домов вдоль асфальтовой дороги – каждый дом с другим домом ничем не связан, кроме проходящих канав с обеих сторон, ограничивающих асфальтовое покрытие дороги для езды машин, – для человеческого хождения специального ничего нет, и не требуется: никто ни к кому не ходит – никто никого не знает.
Людей можно встретить, если только подкараулить, когда они выходят из машин. Нигде никого не видно, кроме лягушек, живущих в канавах. Кроме кваканья лягушек и шума проезжающих машин, ничего не слышно.
И это – город будущего?! Разбегаюсь назад в тень прошлого. В Подъёлки! Там я присутствовала. Там я была. Там – бабушка Черная (прозванная так из-за тёмной кожи лица), высунувшись из окна, с утра до ночи просматривала всю деревню насквозь и знала всё. «Вон, Верунькина внучка идет!» – громко обращалась она и призывала других сотрудников деревенских новостей – бабушку Анисью и бабушку Акулину, посмотреть на меня. «Глядите, городская! Нарядная!» И я поправляла бантик.
Там я присутствовала в пространстве других людей. Тут пространство есть, а тебя – меня – в нем нет, и негде расположиться со своим.
Брожу в стенах дома одна. Яша на работе. Дети в школе. Все развесила. Все распаковала. Брожу. Сижу.
Сижу в душной изоляции. Вечер не приносит ни прохлады, ни смены настроения. Я стала тосковать по исчезнувшим отношениям, по исчезнувшей деятельности, по исчезнувшей самой себе. Бегающая «точечка души» меня покинула. Чем себя успокоить? И чем заняться?
Отправилась по городу поискать свою «точечку души»; даже в аэропорт съездила посмотреть на улетающие самолеты. Куда они улетают? И я хочу улететь – куда-нибудь в тюрьму русскую посидеть с людьми на нарах. Поговорить.
Еду в ритме космического движения по пространству, где вместо тока летят машины, где вместо лиц встречаюсь с огнями колес, и мчусь в этом отчуждении.
Вот «Галерея». Это не магазин, это космодром – вверх, вниз летят эскалаторы бесконечными рядами и потоками, от товаров глаза режет, внизу орет оркестр вместе с крутящимися детьми на катке – площадке замерзшего льда между лавками, ресторанами.
Ничего не могу купить – не могу, не хочу, «шоколадом печаль» не унять, не перед кем показаться – тут не деревня Подъёлки, нет ни друзей, ни подруг, никого!
Там – взаимная благотворительность, схождение на кухне, и всё освещает и окрашивает жизнь, тут – хватаюсь за исчезнувшие отношения.
Позвонили полузнакомому Яшиного отца, врачу, пригласили, мы приехали. Говорим о моём состоянии и о том, что прописали мне американские врачи от депрессии.
– У вас вырастут борода и усы, – облизываясь, говорит наш новый знакомый, предлагая отведать его приготовления.
– Вам не сделали теста на проверку гормонов, и у вас обязательно от этих таблеток вырастут усы! – критикует он американских врачей, сам не сдав экзамена, упиваясь своей осведомленностью.
Не напрасно мне Яша говорил, что большая часть врачей вырастает из породы садистов.
Позвонили другим полузнакомым знакомых математиков, уехавших в Columbus.
– Как поживаете?
В трубке плачущий женский голос:
– Я глубоко беременная! Ничего вам не могу показать, сама сижу и плачу!
Пригласили к нам. Быстро убедились, что эти люди могут правильно определить только размер туфель, и никакой искренности и никакой тесной связи с ними не может быть.
Через две недели у меня появилась американская знакомая – по средам с десяти до двух часов меня решила «занять» – опекать жена Яшиного начальника, госпожа Eugenia White – седая, строгая, положительная женщина, поставившая меня в расписание своей недели. В Америке «housewife» – домохозяйки часто «волонтируют» инвалидов, беспомощных, слепых – водят их по разным местам, помогают по хозяйству, опекают, ухаживают.
Точно в десять часов ее белая машина стояла перед нашим домом, и я выходила ей навстречу. Куда мы отправлялись? По магазинам, иногда в Галерею в роскошный магазин Neiman Markus, где она что-нибудь покупала, потом мы ездили сдавать часть купленного обратно, в другой день мы поехали в thrift shop, куда она привезла два мешка одежды для продажи бедным, – ей дали расписку о пожертвовании, кажется на сумму двести долларов.
Я уже знала о существовании подобных магазинов, побывав с Маей Литвиновой в неописуемом, роскошном «трифшопе» под Нью-Йорком, в Киска-Маунт, который «держала» жена миллионера Гильдесгейма, и назывался он Opportunity Shop (Магазин Возможностей). Она работала там бесплатно, собирала вещи со всех жителей этого зажиточного района и продавала их за очень дешево, а полученные деньги шли на «Великий Израиль». Чего там не было! У меня так разбежались глаза от доступности, что я купила четыре шубы: две каракулевые, одну норковую, и одну афганистанскую, расшитую «выворотку», три пальто и всякой другой всячины, носимой и неснашиваемой, – на мои деньги Израиль смог купить пушку.
В Хьюстоне «трифшоп» не был столь привлекательным.
Ездили мы с госпожой Уайт и на ланчи-собрания ее подруг; каждая из них готовила какое-нибудь кушанье, все пробовали и обменивались рецептами приготовления. Иногда на ланчи приглашались выступающие, – то одна женщина учила, как делать самим конфеты, экономя на каждой конфете цент, – то какая-то черная красавица агитировала о сверхполезной еде, – то какой-то мужик расписывал прелести разведения домашних садов. От приглашения выступить и рассказать о Союзе я отказалась, чтобы не позориться.
Яша попросил госпожу Уайт показать мне Капеллу Ротко и посоветовал минут пять-шесть молча там посидеть.
В восьмиугольном, сером строении, со светом, идущим из верхних щелей, никого не было, кроме сидящей на полу в позе лотоса странной своеобразной дамы, «улетевшей в астрал», и обнимающих торжественное восьмиугольное пространство восьми пустых полотен работы Марко Ротко. Сразу мелькнула мысль о ложности ощущения и каких-то уловках. Смотрю во все стороны, переводя взгляд с темно-зеленого полотна на темно-фиолетовое, соединяя их взглядом, потом на темно-серое, обращаю взгляд назад. Безмолвная кажущаяся пустынность полотен приходит в движение…и сгущенные, сжатые красками миры одушевляются.. разряжаются! Картины начинают шевелиться! Появляется упоение глубокой перспективой и, кажется, вступаешь во взаимодействие с миром, – духом художника, размазанным шваброй по полотнам. Из глухих, немых, упрощенных полотен, из темноты ночи вырисовываются города, улицы, замки, дома, горы, миры… вечность. Как хорошо там! Мое мимолетное, испорченное время встречается с глубинным.
«Напряженная таинственная дуга между осознанием вещей»- его миров и моих – возникла! И только цветом, как говорит Яша, Марк Ротко передает состояние. И только что производит тревогу, и только что оживает? И как привлекательно волшебство внутри нас!
– Капелла Ротко делает Хьюстон не провинциальным, – говорит Яша. И всегда показывает ее всем нашим гостям.
(Продолжение следует)