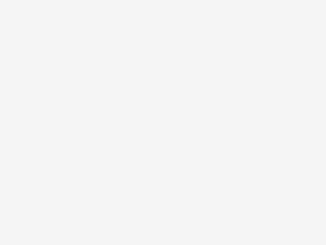И в этом году, как всегда, накануне первого дня зимы я вешаю на загогулины железной кровати два рождественских носка, пошитых из лоскутков, и для начала опускаю в них то, что нахожу в кладовке: несколько маленьких сникерсов, недоеденные печенья-ушки с предсказаниями из Чайна-Тауна, по горсти неочищенного миндаля. Днем в перерыве покупаю на заправке «Сэвен-Илевен» через дорогу от нашего офиса гармошку долларовых лотерейных билетов и вечером опускаю один в носок мужа. Шансов мало, но деньги идут на школы, поэтому в любом случае необидно.
И в этом году, как всегда, накануне первого дня зимы я вешаю на загогулины железной кровати два рождественских носка, пошитых из лоскутков, и для начала опускаю в них то, что нахожу в кладовке: несколько маленьких сникерсов, недоеденные печенья-ушки с предсказаниями из Чайна-Тауна, по горсти неочищенного миндаля. Днем в перерыве покупаю на заправке «Сэвен-Илевен» через дорогу от нашего офиса гармошку долларовых лотерейных билетов и вечером опускаю один в носок мужа. Шансов мало, но деньги идут на школы, поэтому в любом случае необидно.
– Ты смотрел в носке? – спрашиваю его за ужином, уловив паузу в многоголосии собравшейся семьи.
– А чего смотреть, когда ты туда положила старые сникерсы, которые я сам же на Хэллоуин покупал? – подтрунивает он. Я отмечаю, что все-таки смотрел.
– Во-первых, не я, а Санта Клаус, а во-вторых, еще раз посмотри, – говорю я. – Кан-и-кан! (Это уже из моего скудного китайского вокабулярия – золовка смеется).
Елку, а нашей елке восемь лет, мы обычно собираем в самое рождество по западному стилю, и она стоит до Татьяниного дня, но в этом году ради гостей наряжаем раньше. Это первое рождество нашей детки; мы показываем ей шарики, а она отворачивается – не понимает, в чем тут фокус. Вместе с традиционными шарами вешаем флакончики из-под духов с тех времен, когда игрушек не было.
На работе праздник витает в кондиционированном воздухе тоже с первых декабрьских дней. В вязке свитеров ветки остролиста с красными ягодами, валторны, олени, прянечные домики. Довольные клиенты желают счастливого рождества, а недовольные – ругаются, что, мол, скоро рождество, а вы такие-сякие. По электронной почте кочует растущее, как снежный ком, меню праздничного ланча: спиральная ветчина с дольками ананаса, ризотто, шпинатный соус в ковриге, картофельный салат, шоколадный кекс и сидр, не говоря о прочем. То там, то здесь вспыхивает красная или бледно-желтая звезда пуансеттии.
С утра приходишь – на столе открытка и сверточек с мятными леденцами-посошками или пеканами или чайной кружкой или пузырьком с банным средством. Я перетряхиваю дома кладовки, шкафы, шкатулки и заворачиваю в подарочную бумагу давно не слушавшиеся компакт-диски, ненадеванные шейные платки, к которым у меня слабость и которых слишком много, бусы, непонятно откуда взявшиеся керамические фигурки девы Марии, младенца, волхва и коленопреклоненной коровки, просто пакетики чая, кофе и овсянки.
Последний рабочий день перед праздниками. Мы навещаем подшефный дом престарелых, из бедных, забытый в глубине одного восточного квартала. Подарки куплены по именному списку с размерами. Кто просит штаны с начесом, кто – свитер, кто – одеколон, кто – трусы, кто – просто носовой платок. Квартальчик ветхий, грустный, под стать зимней растительности; по соседству два кладбища.
– Надо раздать подарки по ярлычкам и помочь развернуть, – говорит наш офис-менеджер Карл, субтильный с бородкой, обводящей скулы.
– Помочь развернуть?
– Да, мне вот в прошлый раз достался один, без рук. А некоторые уже не говорят, и имени не добьешься.
Я начинаю волноваться.
– И одежду маркерами подписать, – добавляет Ирма, сидящая на заднем сидении, как в цветнике, среди торчащих во все стороны языков жухлой папиросной бумаги.
Мы подъезжаем к приплюснутому длинному зданьицу, похожему на вагон. Во дворе, обнесенном металлической сеткой, разгружается обогнавший нас авто-фургончик. От подъезда за нами наблюдает из инвалидной коляски, кажется, мужчина, очень худой: одежда выглядит пустой, лицо под вязаной шапочкой, как черносливина. Мы проходим под его взглядом, нагруженные коробками до самого подбородка.
После уличного воздуха внутри душно, пахнет моечными средствами, лекарствами и человеком. Направо столовая, где собрались обитатели дома, странно напоминающие велосипедистов, тоже сросшиеся с колесами. Жиденькая мишура под потолком, единственное украшение, – как слабый отсвет праздничной кутерьмы и расточительности во внешнем мире.
С минуту, пока ждем директрису, мы смотрим на них, они смотрят на нас. Заметавшийся взгляд цепляется за опухшие ноги в фетровых бахилах, за бледную пижаму с фальшиво-бархатной блузкой поверх, торчащие из бинтов артритические пальцы с желтыми ногтями, золотой бантик на серых волосах, сквозь которые светится скальп, чьи-то крепко зажмуренные глаза без ресниц и безостановочно жующий рот.
Прибежавшая директриса, ярко нарисованными бровями и губами на бледном лице и отросшими двуцветными, рыжими и седыми, волосами дыбом похожая на клоуна, но на самом деле обыкновенный ангел, строит нас на фоне подарков.
– Мы тут репетировали «Радость миру», у них хорошо получается, – говорит она, отщелкав фотоаппаратом, и командует: – А ну-ка, громко! Три-четыре!
– Joy to the world, the Lord is come! – запевают они послушно и вразнобой. Соц. работники подхватывают. Звонкое сопрано незнакомой афроамериканки в нарядном парчовом пиджаке пронзает кашу голосов и ударяет в низкий потолок.
Мы выкрикиваем имена и раздаем подарки. Директриса подбегает ко мне, оттесняет в уголок и, понизив голос, говорит:
– Эта скончалась на той неделе, но у нас есть новенькая, не успели в списки внести. Прячется в своей комнате – расстроилась, что не будет подарка. Ярлычок только сдерите, а размер примерно тот же.
В коридоре спрашиваю медсестру с тележкой, в какой комнате Синтия; мне показывают. В полутемной комнате четыре койки, разделенные занавесками. В углу высокий стульчак на ножках. На стенах детские рисунки, бумажные иконки, глянцевые иллюстрации из журналов, написанное от руки расписание дня. Синтия прячется за занавеской.
– Merry Christmas! – я кладу ей на колени подарок.
Лицо и руки у нее, как потрескавшаяся земля, а взгляд детский. Она верит и не верит, ощупывает шуршащий подарок, спрашивает:
– А ты мне поможешь?
– Конечно, – говорю я. – Хотите, поедем и откроем вместе со всеми?
Она кивает. Лавируя коляской, находим местечко в столовой. Теперь поют «Silent night, holy night» . Я разрываю бумагу, приговаривая:
– И что там такое?
– И что там такое? – повторяет она с той же интонацией
– Хм… похоже, на конверты. (Под оберткой коробка офисных горчичного цвета конвертов, ну и подарочек!) Здорово, правда? – говорю я, отковыривая изоленту там и тут.
– Хоть бы это были конверты! – Синтия молитвенно складывает ручки.
– И правда, можно кому-нибудь что-нибудь послать! – брежу я бодро, хотя очевидно, что Синтии посылать некому и нечего.
– Уже проклеенные! – ахает она, читая на коробке. Мне хочется плакать.
– Да нет, смотрите-ка, тут что-то другое, – в коробке сверток плащовки на поясе-резинке. – Даже лучше конвертов. Может, юбка? – разворачиваю спортивные удобные брюки. – Мировые брюки!..
Выкрикиваю другое имя. Мне показывают – туда-туда, но там двое тянут руки к коробке, и я не знаю, кто из них. Меня выручает директриса.
– С рождеством! – говорю я, подавая коробку женщине, почти молодой, но почему-то разрушенной и седой. У нее большие рассеянные голубые глаза. Она открывает рот и мычит. Видно, как бесполезно вращается язык. Так же бесполезны тянущиеся руки.
– Открыть? – я осторожно потрошу подарок, чтобы не подумала, что отбираю; трудно судить по выражению лица. – Ах, как красиво! – вытаскиваю обыкновенную однотонную фуфайку. – И цвет приятный, вроде как вишневый! – продолжаю выдумывать я. – Надеюсь, вам понравится!
И вдруг понимаю, что она силится сказать:
– Like it! Like it! Like it!
– Вот и хорошо! – приобнимаю ее за плечи, а она обнимает по-настоящему, как ребенок, и целует, целует, и никак не отпускает.
– Like it! Like it! Like it!..
Нам еще поют «For he’s a jolly good fellow» , ангел с макияжем клоуна хвалит нас, машут руками, аплодируют, кричат на счет три-четыре, и мы вырываемся наружу.
На обратной дороге мы с Карлом говорим, говорим, говорим, кто как смотрел, кто что сказал, что пару лет назад нанимали парикмахера, что на будущее надо бы запросить список пораньше, что конфеты с сахаром нельзя, а Ирма молчит. Только когда мы выходим из машины перед зданием офиса, она вдруг говорит:
– Когда мама была жива, мы всегда ходили в дом престарелых под рождество.
– По работе? – спрашиваю я больше ради того, чтобы фраза не осталась висеть в воздухе.
– Нет, сами по себе… – говорит Ирма, и фраза все-таки повисает.
В рождественский вечер мы ждем гостей. На кухне пахнет печеными овощами и оливковым маслом. Свекровь намесила фарша с кореньями и луком. Я леплю колобки и бросаю в кипящее масло, муж вылавливает их, уже румяные, палочками. На фоне песнопений Тихвинского монастыря из гостиной доносится голос глуховатого свекра: «И джи лао-хуо, льян гэ йэн-дзин, ба тьяо туэй…» – бесконечная детская прибаутка вроде сказки про белого бычка. Сдвигаем столы, стелем скатерти, темно-синюю с белыми цветами и белую с красным узором, между рядами белых тарелок – несколько прошлогодних шишек из Раунд-Топа. Я оглядываю эффект, руки в карманы, и нащупываю там скомканную бумажку. Машинально вытаскиваю, разворачиваю – это ярлычок от подарка с чьим-то именем.