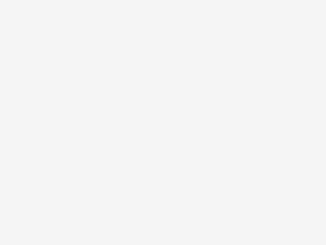Со дня его смерти прошло почти тридцать лет — целая жизнь, а песни по-прежнему звучат с магнитофонных лент.
…Все забыли, что давным-давно барды были отдельным сословием. Странствовали от одного короля к другому, песнями зарабатывали на хлеб. Жениться им было не положено, хоронили их за церковной оградой вместе с самоубийцами. Единственная же привилегия — говорить, петь, кричать правду при дворе ли, в кабаке, на городской площади. И не было в средневековой Европе никого свободнее, смелее и обездоленней их.
Песни Александра Галича — оттуда. В железную советскую эпоху он и был самым настоящим бардом.
В зале Общинного дома, где проходит вечер памяти, его ровесники. Убеленные головы, лица в морщинах. И когда оживает экран, оживают и их глаза, по-стариковски пристально сверяющие каждый кадр: да, все правильно, именно таким мы его помним… Магия встречи.
А для нас, для последнего советского поколения, знакомство с Галичем началось со Стругацких, когда посреди книжки вдруг обрушились непонятные строки. Герои, сидя на ночной кухне, пьют и поют:
Упекли пророка в республику Коми.
А он и перекинься башкою в лебеду…
Сколько их было, таких кухонь, в Питере, в Москве, в Берлине, в Нью-Йорке? Галича вспоминают везде, где говорят по-русски, потому что нет среди поэтов более сопричастного общей судьбе. Русский поэт с еврейской фамилией — парадокс? Да нет, скорей, закономерность. Просто в странствующем нашем народе без конца, назойливо звучит струна страдания. Ее голос попал в резонанс с российской неприкаянностью, с горечью и красотой этой странной земли — и появилась гитара Галича.
Его называли мародером за страшные, точные, как выстрел в упор, песни о лагерях, в которых он не сидел. Ему, написавшему «Кадиш» — песню-поминовение, шипели в спину: «Сионист!», а он любил Россию. И она отвечала ему взаимностью — Россия тружеников, мучеников, зэков и вертухаев.
И в тот самый миг, когда за окном
Проплывает во тьме тоска, –
Тогда просыпается Белая Вошь –
Повелительница зэка.
А мы-то ее называли все —
Королева Материка…
Уже давно не было на свете ни вождя всех народов, ни его придворных — но Устьвымлаг и АЛЖИР еще действовали, и схлопотать срок за неблагонадежность было вполне несложно. Не «вышку», не 25 лет «особого» — от 10 до трешки, как тунеядец Бродский. Карать в прежнем объеме власть уже не могла. Оттепель, эта необходимая уступка Западу, быстро принесла свои плоды, и с ними приходилось как-то мириться. Слегка диссидентствовать разрешалось. Интеллигентские кружки, Политех, самиздат, «битлы» — пожалуйста, главное — не попадайся! Веди себя тихо, не лезь на рожон.
Но поэт не может «вести себя». Противостояние поэта и власти — российская традиция, со времен Александра Сергеевича, как же Галичу было ее миновать?
Если вдуматься, он не сказал ничего нового. Разве страна не знала про лагеря — от тех, кто выжил и вернулся; разве не тошнило всех от показухи партийных съездов, в чьи громкие фразы уже мало кто верил? То, что пересказывалось тайком, полушепотом, в коммуналках и за закрытыми дверями кремлевских кабинетов, Галич облек в слова, положил их на музыку, и тайны перестали быть тайнами. Так на свет явилась правда, и спрятаться от нее было невозможно, потому что образы, вызванные Галичем, накрепко цепляли любого, кто с ними сталкивался.
А начальничек спьяну —
о Сталине,
Все хватает баранку рукой…
 Если бы его «лагерные» песни были просто блатной романтикой; если бы его лирика звучала «высоким штилем»; если бы он выбрал себе какую-то одну безопасную нишу — все бы обошлось. Изолированный в узких рамках жанра, Галич стал бы достоянием избранных. Его с удовольствием подавали бы на дипприемах, он сделался бы официальным советским шансонье:
Если бы его «лагерные» песни были просто блатной романтикой; если бы его лирика звучала «высоким штилем»; если бы он выбрал себе какую-то одну безопасную нишу — все бы обошлось. Изолированный в узких рамках жанра, Галич стал бы достоянием избранных. Его с удовольствием подавали бы на дипприемах, он сделался бы официальным советским шансонье:
И тогда я улягусь на стол
на торжественный тот
И бумажную розу засуну
в оскаленный рот…
Он боялся этого и не хотел. Много раз его «негероические» герои шли на компромисс с совестью, и предавали, и ломались, а он их потом судил… и оплакивал, заставляя и слушателя гневаться и сострадать.
Кто же был его слушателем? Да все. Все — потому что он говорил с каждым на его языке, на общем нашем языке, на котором любят, негодуют, проклинают и жалеют.
Боль — самый короткий путь к русскому сердцу, каких бы кровей оно ни было. Боль — ключевое слово к российской истории, той истории, которая, прежде чем попасть в учебники, проходит по живым людям, перемалывая души, судьбы.
Галич вобрал в свои песни то, чем мучалось и дышало время.
Другой его особенностью, не менее яркой и взрывоопасной, была потрясающая ирония. Его частушечные, смешные песни пробирали до печенок. Товарищ Парамонова, Егор Мальцев, счастливые психи — вот это да! Слова и музыка — почти народные, запоминаются на раз!
Ирония — опасное оружие, за ношение которого бард легко мог поплатиться головой. Ох, как же мешали его песенки! Прищучить бы… да нельзя: артист, режиссер, член двух Союзов — писателей и кинематографистов. «Представляете, какую оценку Би-би-си дадут подобному факту?» Но подвернулся случай.
Режиссер Иван Дыховичный играл свадьбу с дочерью одного из членов Политбюро — тогда такие браки были хорошим тоном. На торжество пригласили Владимира Высоцкого, который не смог приехать; пришлось гостям довольствоваться записью Галича. В это время, как на грех, появился «сам» — то бишь высокопоставленный тесть. Послушал, послушал… «Анитсоветчина! Кто посмел?!» И пошло-поехало…
Тут же, как назло, подоспел и диск Галича, изданный за рубежом без ведома автора. Ничего более криминального по тем временам и быть не могло.
29 декабря 1971 года состоялось закрытое заседание секретариата Союза писателей. Процедура была хорошо знакомой. Ее пережили в свое время и Зощенко, и Пастернак, теперь настала очередь Галича.
Как его уговаривали: «Саша, напиши письмо, выступи публично, скажи, что ошибался, что раскаиваешься! Пока не было общего собрания, все можно переиграть!»
Он действительно выступил: «Я писал свои песни не из злопыхательства, не из желания выдать черное за белое; я писал о том, что болит у каждого, так что же мне теперь делать? У меня отняли литературные права, но оставили обязанность — сочинять стихи…»
Дальше последовало исключение из Союза кинематографистов, совсем смешное и нелепое: Галичу звонили: «Саша, приди, пожалуйста, мы должны тебя исключить». «Да как-то не хочется, — отвечал Галич, — я нездоров». «Саша, нельзя же такое мероприятие проводить без тебя!..» В итоге на очередном заседании следующим пунктом после назначения нового повара в ресторан Союза обсуждали исключение так и не явившегося А.А. Галича. Решение было принято единогласно.
Выгнанный отовсюду Галич потихоньку распродавал огромную свою библиотеку. Свести концы с концами помогали знаменитые друзья: Ландау, Капица, Са-харов — сам полуопальный. Однажды он приехал к Галичу на гэбэшной черной «Волге», переполошив друга: тот, увидев машину из окна, решил — все… «Да меня просто подвезли, — оправдывался Сахаров, — выхожу из дому, смотрю — стоят. Ребята, — говорю, — вы же все равно за мной к Галичу поедете, так подбросьте уж!»
Выручала подработка литературным «негром» — Галич брался переделывать чужие сценарии. Как-то Алена, дочь поэта, застала отца за изготовлением очередного «шедевра» для Узбекфильма. Галич сначала хмурился, потом стал тихо посмеиваться: «Представляешь, я замостырил им Шекспира, «Ромео и Джульетту», как есть — только на тракторах! Интересно, пропустят или нет?». На ближайшем фестивале фильм получил первую премию.
Три года сумбурной, унизительной жизни… Обладая паспортом беженца — подарком норвежских друзей — он мог уехать в любой момент, но не спешил. Тогда его поторопили: вызвали «куда следует». «Значит, так. Или вы уезжаете из страны по израильской визе, или отправляетесь в другую сторону — на Север. В вашем распоряжении десять дней».
Оставшись без России, он получил то, о чем тысячи его бывших соотечественников и не мечтали: свободу, жизнь, полную радостей, недоступных простому смертному «совку», Париж, в конце концов! Чего еще? У Галича был огромный мир, совершенно ему ненужный.
Он рвался назад — отказали.
В сущности, Галич, чьи песни расшатали-таки стропила системы, не был диссидентом, «политическим». Россия для Галича была не государством, а образом, чувством, растворенным в людях, в книгах и языке, в запахах, красках, звуках. Невыразимая, неделимая — одна. Он не кидал камни в «империю зла». Даже работая на «Радио Свобода», не сводил счеты с властью, не проклинал, не обличал, хотя на этом можно было подзаработать, и никто бы не упрекнул — так делали многие. Не стал главным советским бардом — не беда, будешь главным антисоветским!
А он вместо этого взял да умер.
Де юре — от удара током. В самом деле, разве ностальгия бывает смертельной?
…Вот и все. После вечера памяти зрители долго осаждают Алену, берут автограф. Зал пустеет. Нет больше никакой Страны Советов, нет ГУЛАГа, нет ЦК КПСС. Нет прежних коммуналок, нет катков, где играет музыка. Остается совсем немного: февральская свечка, сычи на подушках… Страна детства, которую мы любили. Может быть, она не исчезнет, пока звучат его песни.