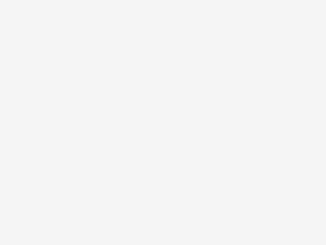Встречи с Кузьминским
Встречи с Кузьминским
Продолжение. Начало в #309, 310
Большое негодование нашей эмигрантской публики вызвал фильм «Бывшие», показанный по американскому телевидению и на широких экранах с участием Кузьминского. После показа фильма у нас раздавались звонки: «Яков, твоего Кузьминского нужно убить!», «Ваш Кузьминский со своими грязными собаками позорит русских на всю Америку…», «Вчера ваш Кузьминский в фильме валялся пьяный…».
Возмущённые эмигранты создали какой-то комитет и подали в суд на режиссёра фильма Джессику Савич за клеветнические измышления. Джессика Савич погибла в автомобильной катастрофе, суд не состоялся, но про Кузьминского стало ходить мнение, что он позорит нашу эмиграцию, что нельзя серьёзно к нему относиться – репутация его была подмочена, и он уже не мог быть первым парнем на нашей эмигрантской деревеньке.
Не одобряя Костиного ёрничанья и злословия, Яков защищал его от нападок эмигрантской публики, говорил, что к личности Кузьминского не нужно подходить с обычными мерками, старался открыть лучшее, что было в Косте – яркость, неповторимость, исключительность его личности, подчёркивая, что всегда можно найти основания не любить.
Хотя мы приехали в свободную страну, но внешнее «освобождение» – только путь к достижению внутренней свободы, которую нужно «освобождать в себе», как мне советовал Яков, а «не искать где-то виноватого в своих поражениях». Но мы ещё долго мыслим так, как привыкли в тоталитарной системе.
В России Кузьминский создавал своё потустороннее пространство, живя в котором, выпадал из социального строя и вызывал восхищение у многих огорчённых советской властью людей. В Америке же его «выпадения» из социума перестали встречать такое бурное восхищение.
Не помню, чья была идея, кажется, Джона Боулта как директора Фонда Русской культуры, посетить американскую тюрьму и рассказать заключённым о русской культуре. Костя с радостью принял это предложение, надеясь, что, может, в американской тюрьме, в потусторонней жизни, у выпавших из социума он найдёт понимание и сочувствие. Джон Боулт, Кузьминский и Яков отправились в Техасскую тюрьму города Далласа пронять американских заключённых русским авангардом. Кузьминский вырядился суперковбоем, просто Джон Вейн из Вестернов: кожаные штаны с блямбами, замшевая куртка с разными прибамбасами, шляпа с громадными полями, сапоги с отворотами, подвешенная кобура. С заключёнными он говорил на американском сленге, с американизмами «уё-моё», его английский звучал так, будто он родился в техасских прериях.
Не знаю, как и что думали американские тюремные резиденты про русский авангард, предполагаю, что они понятия не имели, где такая страна Россия, уж не говоря о поэзии, нонкомформизме… Но Кузьминский был от тюрьмы в восторге. В заключение своей речи он сказал, что при таком избытке времени, на таком довольствии, как у них, на таких харчах – на столах масло, повидло, хлеб, без КГБ, без советской власти – на таком приволье можно столько написать стихов, столько нарисовать картин, что он просто-напросто им завидует. «А мои…» и, вспоминая своих бедных, бездомных, голодных российских поэтов и художников Эрля, Ширали, Охапкина… подпустил слезу. «Они совсем не похожи на ваших американских художественных дельцов, им вечно нечего есть, спать, нет угла, где можно с девушкой «перепихнуться». В России снег, холодно, там не Техас». Устроил мастерский эмоциональный спектакль.
Яков рассказывал, что заключённые сначала смотрели на Кузьминского с удивлением, как будто увидели инопланетянина, но потом они чутьём поняли, что он им сродни, и к концу тюремного приёма обращались с ним по-свойски: хлопали по плечу, пожимали руку, показывали свои татуировки, один преподнёс яблоко, другой – свой рисунок. Можно сказать, приглашали с ними пожить. На следующий день в «Далласской правде» была заметка «Русское искусство в американской тюрьме» – о том, как расцветает дружба между народами, как в исправительном заведении идёт воспитание заключённых стихами и картинами. И вот уже половина уголовников собирается стать поэтами, другая – художниками.
Может быть, совсем неплохо «воспитывать» людей искусством, если «человека просветить, то тут же он перестанет делать пакости» (?), как хотел Бродский своим «нескромным предложением» – разложить томики стихов рядом с Библией во всех отелях и супермаркетах. Пусть себе и лежат.
В Америке Кузьминский хочет сохранить для истории осколки и фрагменты жизни своих современников, их стихи, произведения, лица. И если он был вынужден покинуть родную страну, то не своё художественное движение, не своих любимых поэтов, художников, судьбы которых его волновали. И Кузьминский начинает собирать и готовить антологию «Голубая лагуна», куда помещает немыслимое количество материалов подпольного авангарда. Какую-то часть материалов ему помогли вывезти иностранцы и уезжающие, что-то у него было при себе, однако чтобы как можно шире представить свой подпольный авангард, он собирает материалы по всему миру, списывается с разными людьми, прося подборки стихов, архивы, фотографии, воспоминания. Всё поступившее сшивает своей иглой.
Яков предоставил Кузьминскому часть нашего архива (так что даже я попала в Антологию на фотографиях) и один стишок Якова.
На издание «Голубой лагуны» было не достаточно денег, чтобы убедительно и красиво представить все материалы, поэтому много текстов плохо отпечатано, не отредактировано, фотографии мутные, расплывчатые.
Эти толстые собрания-тома, их восемь, представляют, скорее, антропологический интерес, чем литературно-художественный, – как поэты и писатели интуитивно противодействовали искусственному разрыву традиции и поддерживали культуру. Кое-что из текстов мне понравилось, но я не буду анализировать тексты «Антологии», я не пишу рецензию, только скажу, что «Голубая лагуна» отражает вкус и щедрость составителя в оценке поэтов. Для Кости от каждого поэта требовалось единственное – неподпевание советской системе, отсюда вытекал и не особенно большой эстетизм и публикация посредственных стихов. Поддержка стихов своих современников, а иной раз и восхищение Кузьминским и изголодавшейся публикой, как писалось, вызывала повышенные самооценки авторов: многие из свободных художников считали, что они сложнее и богаче своей аудитории, что они выражают нечто, недоступное простому смертному, – и такое эгоцентричное ощущение себя, думается, являлось и является корнем многих их бед. Официальных они презирали и оскорбляли, хотя, безусловно, все хотели печататься и выставляться, честолюбие свойственно почти каждому. Они растрачивали себя неизвестно на что, чаще всего чтобы произвести впечатление, напоказ, даже перед самими собою, многие из них растворяли свой талант в водке… и уродовали свои поэтические судьбы.
В России у Кузьминского была несовместимость с окружающей средой, но и в Америке он сразу стал «выпадать» из социума. Будто не знал, что любое общество всегда противостоит отдельному индивидууму, что нет идеального строя, что любая система, созданная человеком, несовершенна. И в Америке он опять уходит от всего происходящего в забытьё, в запой, ссорится с людьми, его любившими, расстаётся с Джоном Боултом, Сидней Моносом, Ильёй Левиным… С нами тоже был готов рассориться, но не успел, уехал в Нью-Йорк, и мы всё-таки жили подальше от Остина.
Вот так «по пьянке» потерял профессорское место, любовь и поддержку многих своих друзей и поклонников. Оттолкнул от себя многих доброжелателей. По пьянке не один из наших свободных художников, жертв эпидемии гениальности, растворился в обыденном, забылся в пространстве, растерялся в жизни. Свою оригинальность, свою духовную стоимость алкоголем они понижали и капитулировали. И можно только сожалеть о пропитых и растраченных талантах.
И теперь – последний фрагмент – о моём посещении Кузьминского через много лет в его поселении в Катскильских горах. После смерти Якова (1984 г.) я переехала в Бостон, предложение Кости – взять меня в свой гарем, он, видимо, забыл, и я приняла другое – вышла замуж за физика Леонида Перловского. Пару раз мы навестили Костю где-то в подвале Бруклина, при скоплении народа и невозможности разговора, и только изредка обмениваемся письмами и «е-мелями».
В один из приездов на дачу к нашим друзьям в Катскильские горы мы решили навестить Кузьминских. Дорога огибала подножия холмов, шла по долинам, заполненным озёрами, иногда горы подступали прямо к дороге, обнажая свои гранитные внутренности. Посёлков не попадалось, и казалось, что мы попали в первозданный докембрийский пейзаж. Из-за изгибов и поворотов ехали довольно долго, пока не показалась большая река с мостом и вдоль её берегов – жилищные строения.
Наш спутниковый руководитель произнес: тут останавливайтесь! Но мы не могли поверить, что полуразвалившийся ветхий сарай с гуляющими вокруг курами и роскошным петухом и есть дом нашего поэта. Не остановившись, проехали дальше через мост, оказались рядом с нарядным домом. Стояший около дома человек произнёс: «Вы ошиблись, поэты живут там, на на другом берегу». Незакомец показал нам пропорцию между заработками финансистов и поэтов. Мы вернулись обратно к одряхлевшему сараю, около которого нас встретила Эмма.
Поднялись по деревянной подвесной лестнице по ступеньками, шатавшимся и скрипящим, на высоту второго этажа, «первый» был без окон и дверей, как потом я увидела, первого и не было – дом стоял на сваях над ручьём. Вошли в громадную
полутёмную комнату, всю заставленную и заваленную африканскими безделушками, сфинксами, деревянными фаллическими скульптурами, чудовищами с головами, клыками, копьями, ружьями и бредовыми масками. Маски везде: на стенах, подставках, окнах, карнизах, перекладинах, почерневшие, пыльные. Смотреть на них мне не доставляет особого удовольствия: они как-то будоражат, видимо, потому что устремляются вовнутрь тебя, говорят тебе о тебе – посмотри, какой ты ужасный.
У Кости всегда была привязанность к экзотическим вещам – кафтанам, черепам, минотаврам, маскам, монстрам, фалласам, и сейчас они заполонили всё пространство, а отдельные, воздушные шары с хвостами, как химеры, висели на потолке. Любя исключения из правил, он, видно, находит красоту в уродстве. Проходя среди этого наваленного, как на аукционе, антика, я что-то задела своей сумкой, и вдруг чёрная фигура, лежащая около прохода, зашевелилась, я вздрогнула, в долю секунды увидела – эта фигура вытянулась и превратилась в живую чёрную кошку. Я отошла, оглянулась. И невозможно сказать, вижу или кажется: то там, то тут предметы, фигуры, маски стали двигаться, оживать, и вот- вот вся комната наполняется живыми приведениями. Картина была мистическая. «У нас девять кошек», – сказала Эмма.
Среди всей этой экзотики в дальнем углу было ложе. На нём возлежал наш герой. Эмма подняла его к гостям. Костя изменился до неузнаваемости с того дня, когда был «не день рождения собаки», по выражению нашего сына Данечки. Смотрит по-другому. Исчезла бесовская хитреца во взгляде. Глаза стали водянисто-серыми и в них уже нет хмельной насмешки. Исхудал. Как-то упростился, прошла жгучесть актёрства. Уже не дурачит окружающих.
Однако от Кости остались не только одни кости, но и та его часть, которая уважает просто то, что человек пишет стихи, рисует картины, творит. И он остается самим собой и не поддаётся общему соблазну. Он не лицемерен. Был хулиган, всегда в оппозии к моде, пошлости и остался – себе не изменяет.
Как я уже писала, с порога знаешь с кем имеешь дело, всё говорит об этом. Приходится только удивляться, как другие, такие торжественно- учтивые поэты и писатели, от которых совсем не ждёшь пакостей, фальшивых заявлений, сводят счёты с теми, кто не может им ответить, «достают» из себя такое, что в сравнении с ними шутки и насмешки Кузьминского уже не кажутся такими едкими.
Стол, за который мы сели, примыкал к кухне, и чтобы не отвлекаться на «потусторонний мир», я повернулась спиной к оживающим маскам. За чаем беседовали.
Продолжение следует.