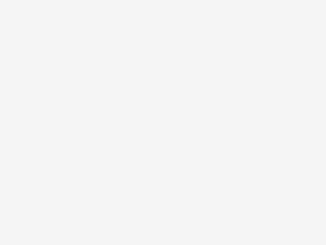Людмила Штерн родилась в Ленинграде, окончила Ленинградский Горный институт и аспирантуру Ленинградского Университета. Кандидат геолого-разведочных наук. С 1976 года живет в г. Бостоне, США. В настоящее время работает научным сотрудником в Университете Брандайс. Её повести, рассказы и романы вышли на русском, английском и итальянском языках. Самые известные из них – воспоминания об Иосифе Бродском и Сергее Довлатове.
Людмила Штерн родилась в Ленинграде, окончила Ленинградский Горный институт и аспирантуру Ленинградского Университета. Кандидат геолого-разведочных наук. С 1976 года живет в г. Бостоне, США. В настоящее время работает научным сотрудником в Университете Брандайс. Её повести, рассказы и романы вышли на русском, английском и итальянском языках. Самые известные из них – воспоминания об Иосифе Бродском и Сергее Довлатове.
Однажды после лекции, которую я прочла во Флорентийском университете, один студент спросил меня: “Чья судьба вам кажется наиболее трагической: Набокова, Бродского или Довлатова? ”
Этот “детский” вопрос застал меня врасплох, и я забормотала невнятно: с одной стороны, с другой стороны…
Не хотелось разочаровывать юношу неприятной правдой, но в философском смысле любая жизнь трагична. Достаточно вспомнить слова Бродского: “Вы заметили, чем это все кончается?”
Вероятно, юноша имел в виду всего лишь трагичность жизни поэта или писателя, вынужденного жить и работать вне своего отечества и своего языка. “Это смотря какого отечества”, – поспешил высказаться другой студент. “Что могло быть страшнее судьбы писателя или поэта в своём отечестве, в России? Вспомните судьбу Мандельштама, Гумилева, Бабеля, Цветаевой, Маяковского”
“Трагичность” жизни может, вообще, не зависеть от внешних обстоятельств.
Но если меня судьба когда-нибудь ещё сведёт с молодым флорентийцем, я отвечу ему, что упомянутый им список “трагических” эмигрантов, наверно, следует начать с его односельчанина божественного Данте, вынужденного бежать из любимой Флоренции, преследуемого, но “не раскаявшегося”, никогда не вернувшегося на родину и не узнавшего, что четыреста лет спустя после своей смерти он будет считаться гордостью Флоренции и одним из величайших поэтов западной цивилизации.
Как и Данте, ни один из упомянутых флорентийским студентом наших соотечественников-эмигрантов тоже не вернулся на родину. Набоков отказывался даже рассмотреть такую возможность. “Страны, которую я покинул, больше не существует”, – писал он своей сестре Елене Владимировне. Однако, он вовсе не был равнодушен к покинутой отчизне и, более того, пребывал в абсолютной уверенности, что его произведения дойдут до российского читателя и останутся важнейшей вехой в русской литературе.
Судьба Набокова – особый случай и особая проблема. Что же касается Бродского и Довлатова, то сравнение их судеб вполне оправдано.
Жизнь Бродского, несмотря на выпавшие на его долю испытания, трагичной я бы назвать не решилась. Главным образом, благодаря его характеру. Бродский попытался Россию “преодолеть”. И ему это, кажется, удалось. Он искренне считал себя гражданином мира. Его поэтическая звезда оказалась на редкость счастливой – он успел вкусить мировую славу и насладиться уникальными почестями, очень редко выпадающими на долю писателей и поэтов при жизни. В возрасте пятидесяти лет он женился на молодой красивой женщине. Она родила ему дочь Анну, которую он обожал. Трагедией стала его ранняя смерть.
Трагичной ли была жизнь Довлатова? Думаю, что да. Сергей каждой клеткой был связан с Россией. Европой не интересовался, Америку знал только эмигрантскую, и добровольно не выходил за пределы так называемого “русского гетто”. Он не принял эту страну, хотя заочно любил её со времён ранней юности, и хотя именно Америка первая оценила масштаб его литературного дарования. Мало того, что почти всё, что он написал, издано по-английски. Десять публикаций в журнале “New Yorker”, которые осчастливили бы любого американского прозаика, были Довлатову, разумеется, лестны и приятны, но не более того.
Вот что он писал о себе: “…Я – этнический писатель, живущий за 4000 километров от своей аудитории. При этом, как выяснилось, я гораздо более русский, точнее – российский человек, чем мне казалось, я абсолютно не способен меняться и приспосабливаться, и, вообще, не дай тебе Бог узнать, что такое жить в чужой стране, пусть даже такой сытой, румяной и замечательной…” (Письмо Тамаре Зибуновой от 16 февраля 1986 года).
К сожалению, Америка Довлатову не нравилась. Точнее, он её не знал. Настоящей трагедией для Довлатова была глухая стена, которую советская власть воздвигла между ним и его читателяеми в России. До своего отъезда в эмиграцию он опубликовал лишь один рассказ в журнале “Крокодил” и повесть в “Юности”, сам считая эту повесть ничтожным произведением.
Довлатов страстно мечтал о литературном признании на родине и, по трагической иронии судьбы, не дождался его. При жизни он довольствовался славой в Брайтон Бич, и в России был известен, в основном, как журналист радиостанции “Свобода”. Он ушёл на пороге славы, не зная, что станет любимейшим прозаиком миллионов соотечественников. Не знал, но чувствовал. В 1984 году, за шесть лет до своей кончины, в интервью американской журналистке Довлатов сказал: “Моя предполагаемая аудитория менее изысканная и тонкая, чем, например, у Бродского, зато я могу утешать себя надеждой, что она – более массовая”.
Его надежды оправдались. За годы, прошедшие со дня его кончины, его слава разрослась невообразимо. Произведения Довлатова издаются и переиздаются огромными тиражами. Его творчеству посвящают международные конференции, о нём ставятся спектакли. Количество книг о Довлатове, опубликованных за столь короткий срок после его смерти, почти беспрецедентно в русской литературе.
Почему невинный вопрос флорентийского студента так задел меня и вовлёк в попытку сравнения абсолютно несравнимых по творческим параметрам Бродского и Довлатова?
Наверно потому что, пользуясь жаргонным выражением, “по жизни” между ними было много общего, особенно между Довлатовым и Бродским. Они — погодки, ленинградцы, эмигранты, оба жили и умерли в Нью-Йорке. Оба ушли от нас непростительно рано, и ни тот, ни другой не вернулся домой. Вернулись их произведения, и один при жизни, а другой – посмертно – стали идолами и кумирами любителей русской словесности. Впрочем, слава Бродского и популярность Довлатова имеют совершенно разные корни.
Бродский, хоть многие и считают его первым поэтом России конца ХХ столетия, но в силу своей элитарности и сложности он не стал “народным” поэтом, как, по той же причине, не стали народными, массовыми поэтами ни Мандельштам, ни Пастернак, ни Цветаева. А популярность Сергея Довлатова среди читающей России на стыке двух веков сравнима разве что с популярностью Владимира Высоцкого в 60-х – 70-х. Причины этой невероятной популярности сложны и многогранны, и раскрытие их ещё ждёт своих исследователей.
Разумеется, “виноват” в этом и образ самого автора, умело спаянный с образом своего героя: несчастливого, непрактичного, щедрого, великодушного, полупьяного, слегка циничного и романтичного, необычайно созвучного эпохе, стране и её обитателям…
Я много раз слышала стереотипную фразу о Довлатове: «Довлатов – наш человек, он понял самую душу народа!» Вероятно, обладая волшебной отмычкой, он умудрился открыть дверцу к “загадочной” русской душе. Кстати, именно этим талантом, а не собиновским тенором и не армстронговским хрипом был так дорог всем нам Владимир Высоцкий.
В последние десять – пятнадцать лет мемуары, наравне с детективами, стали чуть ли не самым популярным литературным жанром. В океане мемуарной литературы, разлившейся по книжным магазинам, плавают, словно радиоактивные мутанты, её неузнаваемые герои. Часто в такой литературе правды кот наплакал. Жаль, что кто-то когда-то по таким воспоминаниям будет изучать эпоху и писать диссертации.
Опубликованные мемуары о Сергее Довлатове – восторженные, разоблачительные, мстительные, ядовитые – убедительный тому пример. Одно созвездие названий чего стоит! “Довлатов вверх ногами”, “Довлатов и окрестности”, “Мне скучно без Довлатова”, “Сквозь джунгли безумной жизни”, “Когда случилось петь С.Д. и мне”, “Эпистолярный роман Сергея Довлатова с Игорем Ефимовым”. Некоторые из этих книг вызвали извержение нешуточных страстей. Скрещивались шпаги, расторгались браки, обрывалась многолетняя дружба, дошло и до суда.
Понятно, что после такого цунами “Довлатиады” не так уж просто написать ещё одни воспоминания о Сергее Довлатове. Но я рискнула.
Я дружила с Сергеем Довлатовым двадцать три года и в этих воспоминаниях попробую, как говорят американцы, дать его “close up”, то есть нарисовать его портрет с близкого расстояния. Сложность задачи заключается в том, что Довлатов был необыкновенно разнообразен. “Многоликий” Янус – плоская тарелка по сравнению с нашим героем. Если бы три-четыре его ипостаси встретились в одном пространстве, они, возможно, друг друга бы не узнали. Я также собираюсь вспомнить общих знакомых и друзей.
Закончить своё предисловие мне хочется кратким упоминанием неких, возможно несущественных, но ощутимых различий между Первым Поэтом и Первым Прозаиком:
1) Бродский писал трагические стихи высочайшего духовного накала, но при этом был человеком весёлым. Довлатов писал очень смешную, абсурдистскую прозу, но нравом обладал пессимистическим.
2) Бродский в свою литературную кухню никого не пускал и терпеть не мог ни писать, ни рассказывать о своих делах. Довлатов щедро делился с читателями своими “хождениями по мукам”, сделав из них большую литературу.
3) Бродский, человек насмешливый и остроумный, щедро разбрасывал свои “mots”, никогда к ним не возвращаясь. Ироничный Довлатов из придуманных, услышанных и подслушанных острот, реприз, реплик и анекдотов умудрился создать новый литературный жанр.
4) И, главное: Иосиф Бродский любил кошек, а Сергей Довлатов – собак.
Встреча с писателем состоится в субботу 12 ноября в 7 часов вечера в JCC Хьюстона в зале Joe Frank Theater.
Людмила Штерн, знавшая обоих авторов долгие годы как в Советском Союзе, так и в США, поделится своими воспоминаниями и зачитает отрывки из своих книг. Будет показан редкий короткометражный фильм о Бродском. У вас также будет возможность приобрести ее книги.