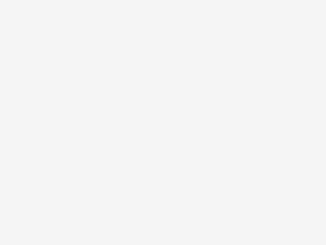Auprés de mon arbre je vivais heureux
Auprés de mon arbre je vivais heureux
J’aurais jamais dû m’èloigner de mon arbre…
Georges Brassens
Я не был ее первым бледнокожим клиентом. С ее-то стажем! Много лет назад она, наверное, в первый раз ласкала рыжую щетину кадыкастых служащих колониальной администрации, чем доставляла им то же тревожное удовольствие, с предвкушением которого я смотрел на нее сейчас.
Потом она перешла на обслуживание темноволосых туземцев. Все это время держалась в прекрасной форме. Не рассмотри я получше старомодный футляр, на котором было вытеснено название мануфактуры в Глазго, я бы ни за что не догадался о ее почтенном возрасте.
Смуглая рука парикмахера так быстро водила бритвой туда-сюда по вытертому куску воловьей кожи, что, казалось, он что-то прячет от меня за этой быстротой. Отточенным, как сама бритва, движением он твердо, но вежливо запрокинул мне голову. Надо мной раскинулось пламенное дерево в алых цветах. Еще выше хмурились муссонные облака. «Только бороду подравняйте», – мои слова прозвучали, как мольба о пощаде. Когда теплая от трения сталь коснулась кожи, и я, было, приготовился лечь на алтарь исламского фундаментализма, если от этого мир изменится в лучшую сторону, проезжавший мимо автобус с улюлюкающими пассажирами обдал меня неочищенным выхлопом и испортил жертвенный настрой.
Я сидел в деревянном, отполированном тысячами клиентов кресле на оживленном бульваре Читтагонга, главного портового города Бангладеш. Вокруг сновали носильщики, велорикши, продавцы всякой всячины, женщины с соседней стройки с тазами цемента на голове, попрошайки-калеки и просто попрошайки, мальчишки-разносчики чая и просто мальчишки, с которых всегда начинается любая азиатская толпа и которые выстраиваются в ожидании зрелища, переминаясь с одной босой ноги на другую. Со своих рабочих мест на тротуаре на нас поглядывали знахарь с коброй в мешке и дикобразом на привязи и дантист, облокотившийся на зубоврачебное кресло – ровесника бритвы под метровым рекламным зубом, прибитым к дереву.
Когда много времени проводишь вдали от дома, рано или поздно приходится стричься. Нет ничего более нелепого, чем отнестись к этому бесплатному приложению к путешествию в другую страну, как к липкой необходимости, и пойти в стерильную парикмахерскую при пятизвездочной гостинице. Если вы не зациклены на определенном фасоне, не запираетесь на несколько недель в ванной, услышав от друзей «ничего, скоро отрастет» и гигиенически гибки, то в кресле народного цирюльника можно плотнее всего приложиться к местной культуре. Для этого не нужно впадать в экстрим ночного выхода в море с рыбаками Суматры или перехода афгано-пакистанской границы с местными контрабандистами. Стрижка in situ – лучшее средство частичной ассимиляции и единственный шанс почувствовать кусочек местной культуры у себя на теле, потому что сколько бы вы ни распинались через щели в языковом барьере о требованиях к своей прическе, вы все равно встанете из кресла с местным вариантом на голове.
В странах Латинской Америки вам всегда оставят волосы длиннее, чем вы попросите. На мою просьбу достричь покороче эквадорский парикмахер из Кито для вида пощелкал ножницами на безопасном расстоянии от волос, явно настаивая на своем видении конечного результата. Сам он был чем-то похож на смесь Че Гевары с Леонтьевым.
В Узбекистане – наоборот. Несмотря на полное языковое попадание, я еле унес голову с сантиметровым слоем волос, остановив безжалостную руку дородной парикмахерши.
В старом квартале Стамбула, когда я уже любовался в зеркало законченным произведением на фоне фотографий артистов мировой эстрады, парикмахер немало напугал меня, чиркнув спичкой и подпалив на моих ушах «monkey hair», как он нелестно выразился – там так принято.
В Моши я пошел в парикмахерскую с видом на Килиманджаро. Белозубый танзаниец во время стрижки не переставал улыбаться и спрашивать «You like?». Закончив, он аккуратно подмел с земляного пола все мои волосы и собрал все волоски у меня с рубашки. Завернул в газету и отдал мне, наказав спустить их в туалет, чтобы они не попали в руки колдунам, которые могут по ним напустить на меня порчу.
А в Индонезии, когда я искал парикмахерскую, меня направили в бордель. Когда я понял, куда попал, и хотел уйти, оказалось, что никакой накладки не произошло, что девушки – мастерицы на все руки, и что многие посетители после стрижки чувствуют себя просто неотразимыми и хотят это немедленно продемонстрировать, пусть и за деньги.
С читтагонгским брадобреем я с самого начала был настороже. Все указывало на то, что небольшого роста лысоватый человечек собирается меня надуть: твердого ответа на мой вопрос «сколько будет стоить?» я не получил. «Заплатите, сколько захотите, и только если останетесь довольны», – он был уклончив. И жестом, заканчивающим переговоры, пригласил меня садиться. Знакомая тактика – не оговаривать цену до обслуживания, но я почему-то поддался и сел. Пока острое лезвие ходило по моей шее, я считал торг неуместным и уже представлял, как будет заломлена космическая цена, как я начну спорить, как толпа станет еще гуще.
Парикмахер тем временем тщательно вытер бритву и взялся за ножницы. «А если я останусь недоволен стрижкой»? – зашел я издалека. «Я скульптор, а вы – мой материал», – у него были проблемы с ответами по существу, но не с самомнением. «Значит, стрижка – искусство»? – спросил я с поддевкой и огляделся по сторонам на язвы третьего мира. «Высокое искусство», – он подхватил мой тон, улыбнулся и спикировал на мои заросли, так и не поинтересовавшись, что же я хочу видеть на своей голове. «Мы легче доверяем друг другу, и поэтому нам не нужна та прямота, которая помогает вам общаться между собой на Западе и делает вас беспомощными на Востоке», – он почти угадывал мои мысли, и от этого или от неподвижного сидения на одном месте я вдруг вспотел и не знал, что сказать. Парикмахер протянул мне руку коммуникативной помощи: «Я с детства хотел быть парикмахером, но в деревне работы не было – все деревенские стриглись, когда ездили в город, а тем, кто не ездил, нечем было платить. Вот я и перебрался в Читтагонг. Под этим деревом работаю уже 17 лет. Бывает, стригу и брею 20 человек в день. Могу снять помещение, но зачем лишний раз быть пленником стен?»
Сеанс подходил к концу, я украдкой глянул на себя в зеркало на стволе дерева. Сверху Эквадор, по бокам Узбекистан. Уши торчат. Скульптура! «Какая страна?» – спросил парикмахер, делая вид, что не замечает моей озабоченности. Я ответил. «Русских – не стриг!» – он оживился. И спокойно так: «Чечню отпустИте. Они другие».
Из ящичка в моем кресле он достал завернутый в тряпочку набор каких-то инструментов, крохотную ложечку на тонкой ручке, щипчики. «Вы когда последний раз чистили уши?» – он знал ответ и спросил, чтобы подготовить меня к тому, что будет дальше. «Вы хорошо слышите?» Я ответил, что не жалуюсь. «Но вы ведь моете чашку, из которой пьете? Не бойтесь, вам не будет больно». Он надел на голову проволочный обруч с примотанным к нему фонариком. Я сжался, когда он начал вставлять мне в ухо эти палочки, ложечки, щипчики, но потом расслабился и даже полюбил ощущение, что бригада мини-уборщиков копошится у меня в голове.
Закончив со вторым ухом, он налил себе на ладони масло и приступил к заключительной процедуре, уже знакомой мне по Индии и Пакистану: массажу головы. Он мял, тискал и шлепал. Он находил между черепом и кожей мышцы, которых нет ни в одном анатомическом атласе. Он менял ритм, силу и угол прикосновений, и от них оживали неведомые до сих пор рецепторы, как будто мне на голову надели шапку удовольствия. Потом пришла очередь лица – руки его стали нежными, и когда он гладил мне веки, я вообще впал в полусон и только помню его слова: «…чтобы Аллаху мог лучше молиться…» Сдернув покрывало жестом фокусника, парикмахер вывел меня из транса и всем своим видом дал понять, что если не создал меня заново, то, по крайней мере, сильно обновил.
«Что я вам должен, если я остался очень-очень доволен»? – я стыдливо засуетился, как кролик перед удавом. «Ничего не должны. Достаточно того, что вы очень довольны». Я пытался всучить ему деньги, он возвращал их мне. К бурной радости мальчишек-чаеносцев я заткнул деньги за кору дерева и поспешил прочь. Он догнал меня, взял мою ладонь, вложил в нее уже изрядно потрепанные бумажки и закрыл мои пальцы. Я пожал ему руку в знак того, что, наконец, все понял и больше пробовать не буду. Он улыбнулся и пошел под свое дерево.
Волосы мои скоро отросли . Уши стали лучше слышать. Или правильнее будет сказать – слушать»? Ведь мне известно лишь о том, что он делал с моей головой снаружи.