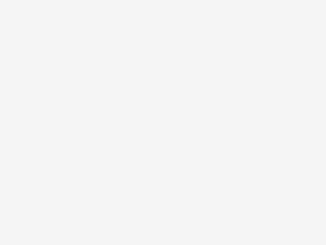К этому фонтану интересно приходить днем. Сквозь арки вступаешь на тесную площадку между высоченными стенами, по которым летят водопады. Мошкарой висит, звенит туман мелких капель. Немного кружится голова, но не оторвать взгляда от несущихся струй. Начинает казаться, что само основание фонтана взлетает вверх. «Как лифт», – говорит мой друг. Да, да, как будто возносишься в открытом лифте. Он фотографирует. Крепко упирается ногами во влажную землю, поджимает губы, прищуривает левый глаз, а правым целится сквозь длинный объектив. Хрустящий звук затвора хорошей зеркальной камеры. Вода, мальчишки, забирающиеся на мокрые каменные тумбы, парящие капли, взлетающая земля – все позирует, замирает навсегда, втискивается в жесткий пластиковый корпус аппарата, и, скорее всего, затеряется где-нибудь на компьютерном диске среди сотен других мгновений. Фотографы снимают больше, чем могут обработать и напечатать. Мы видим больше, чем можем запомнить. В красоту ядом подмешан страх потери. Едва увидев, почувствовав, едва услышав, еще не успев обрести, начинаешь забывать, в пустоты памяти вползает тоска, как клей, связывая еще нестертые картины. Есть что-то странное в этом клее, какой-то негодный химический компонент. Клей растекается все шире, заполняя собой уже не только пустоты. Он наползает на лоскутки впечатлений, меняет их цвет, искажает звук. Лучше смотреть на воду. Или огонь. Вечно меняющееся, неповторимое движение, которое не остановить ни взглядом, ни памятью. Можно расслабиться и следить за моментом, забывая его прошлое, не предчувствуя будущего. Легче говорить с незнакомцем, случайным попутчиком. Можно рассказать сокровенное, принять сочувствие без обязательств, без ожиданий.
К этому фонтану интересно приходить днем. Сквозь арки вступаешь на тесную площадку между высоченными стенами, по которым летят водопады. Мошкарой висит, звенит туман мелких капель. Немного кружится голова, но не оторвать взгляда от несущихся струй. Начинает казаться, что само основание фонтана взлетает вверх. «Как лифт», – говорит мой друг. Да, да, как будто возносишься в открытом лифте. Он фотографирует. Крепко упирается ногами во влажную землю, поджимает губы, прищуривает левый глаз, а правым целится сквозь длинный объектив. Хрустящий звук затвора хорошей зеркальной камеры. Вода, мальчишки, забирающиеся на мокрые каменные тумбы, парящие капли, взлетающая земля – все позирует, замирает навсегда, втискивается в жесткий пластиковый корпус аппарата, и, скорее всего, затеряется где-нибудь на компьютерном диске среди сотен других мгновений. Фотографы снимают больше, чем могут обработать и напечатать. Мы видим больше, чем можем запомнить. В красоту ядом подмешан страх потери. Едва увидев, почувствовав, едва услышав, еще не успев обрести, начинаешь забывать, в пустоты памяти вползает тоска, как клей, связывая еще нестертые картины. Есть что-то странное в этом клее, какой-то негодный химический компонент. Клей растекается все шире, заполняя собой уже не только пустоты. Он наползает на лоскутки впечатлений, меняет их цвет, искажает звук. Лучше смотреть на воду. Или огонь. Вечно меняющееся, неповторимое движение, которое не остановить ни взглядом, ни памятью. Можно расслабиться и следить за моментом, забывая его прошлое, не предчувствуя будущего. Легче говорить с незнакомцем, случайным попутчиком. Можно рассказать сокровенное, принять сочувствие без обязательств, без ожиданий.
Вкус губ. Обычная химическая реакция. Чувствительные клетки языка формируют сигнал, срабатывают биологические механизмы, в кровь выбрасывается адреналин, гормоны… Я еще чувствую тебя. Но это пройдет, забудется, исчезнет, как капли дождя, как случайные брызги фонтана.
В самолете из Хьюстона в Нью-Йорк дают завтрак. Я его ненавижу. Это пластиковый пакетик с хлопьями cereal, картонный кубик с молоком и банан. Поэтому становлюсь в очередь в аэропорту у прилавка с непривлекательной, но все же не самолетной едой. Очередь, как нарастающий ком у камня в текущей воде, торопящиеся потоки упираются в нее, накапливаются, но не смывают, не растекаются между столиками, расставленными здесь же неподалеку – еще нет семи часов. Девушка за прилавком, увешанные сумками и детьми люди нетерпеливо смотрят на минутную стрелку. Ждут её разрешения.
Время! Девушка наклеивает улыбку, люди заказывают кофе, яичное месиво и поджаренную мелкими кубиками невкусную картошку. Я поливаю эту гадость кетчупом и ем, коленями ощущая свои сумки. С черной жижей “regular” кофе (черт побери всё “regular”) несусь на посадку. “Wait a second, – колдунья в форме глядит в экран у входа, – you have been upgraded to business class.”
Я в удобном кресле. Передо мной, накрытый белой скатертью, широкий столик, бокальчик с апельсиновым соком. Но вместо красивой длинноногой стюардессы коренастый дедушка лет семидесяти с лицом в старческих пятнах. Бессонная ночь сильнее изжоги от кетчупа с картошкой – я закрываю глаза и просыпаюсь, когда моему соседу уже подали завтрак. Пытаюсь окликнуть дедушку, несущего подносы кому-то позади. Он рявкает на меня, чем-то вроде: «Погоди, не мешай!», но потом, смилостивившись, подкатывается суетливой старческой развалочкой : «Тебе омлета? У нас хороший омлет!» «Нет, – говорю, – мне бы лучше сирил… и чай.»
 Еще интереснее этот фонтан ночью. Вода подсвечена прожекторами. Вокруг в небольшом парке темнота. Редко и тускло освещенные окна офисов в гигантском небоскребе неподалеку, луна и летящая вода. Лиц людей почти не видно, только силуэты в арках – подвижные и случайные, словно ожившие вырезанные фигурки на белом листе бумаги. Забавный театр теней. За ним можно следить издали долго и расслабленно, как за самой водой.
Еще интереснее этот фонтан ночью. Вода подсвечена прожекторами. Вокруг в небольшом парке темнота. Редко и тускло освещенные окна офисов в гигантском небоскребе неподалеку, луна и летящая вода. Лиц людей почти не видно, только силуэты в арках – подвижные и случайные, словно ожившие вырезанные фигурки на белом листе бумаги. Забавный театр теней. За ним можно следить издали долго и расслабленно, как за самой водой.
В Нью-Йорке – пересадка. Я влезаю на высокий стул с деревянными стременами. Черный парень весело закатывает мне брюки: «I’l fix you up, Sir!!!, – говорит он. – Таких туфель не будет ни у кого в десяти милях вокруг. В следующий раз ты пропустишь самолет, чтобы прийти ко мне!» Через пять минут и пять долларов я смотрю на свое черное отражение в носках собственных ботинок. Парень был прав.
У ворот рейса на Тель-Авив круженье. Народу еще немного, и никак не наберется миньян. Смешливый молодой хасид с длинными пейсами бегает между рядами кресел с пассажирами, призывая евреев на молитву.
У стойки улыбчивый парень в форме. Может быть, и здесь меня ожидает чудо «апгрейда»? Подхожу к нему медленно, стараясь произвести впечатление лучшими в округе ботинками. Он улыбается, кокетливые ямочки на щеках, смотрит на меня по-женски ласково и приятным заигрывающим голосом говорит, что «апгрейд» я могу получить только за дополнительные полторы тысячи долларов. «В следующий раз», – увиливаю и ухожу, чувствуя на спине поволоку его взгляда.
Миньян собран, и хасид сосредоточенно раскачивается с книгой в руках. За его спиной компания из религиозных и не очень, разного возраста мужчин, молящихся, следящих за молитвой и просто зевающих, откровенно дожидаясь конца священнодействия. Хасид на минутку отвлекается, перекидывается с кем-то шуткой, вспыхивает улыбкой, потом сосредотoчивается, и длинные закрученные пейсы снова ритмично взлетают в такт его пению.
Если сделать несколько снимков подряд издалека, то силуэты в арках позднее оживают на фотографиях. Можно создать эффект их движения, быстро перелистывая кадры на компьютере. Чужие, никому не нужные мгновенья становятся вдруг своими и важными. Как текущие капли в фильмах Тарковского.
Запах волос и лба. Ты зарылась мне в шею и замерла. Осторожно повернуть голову, чтобы не потревожить молчания, прикоснуться губами, вдохнуть, запомнить…
 Веселый пейсатый хасид абсолютно не возражает против моего щелканья аппаратом. Он беседует со случайным попутчиком в вязаной шапке, джинсах и майке. Невероятная удача! Оба безразличны ко мне и моей съемке, как летящие струи воды, как далекие силуэты в арке. Я тороплюсь, меняю объективы и снимаю, снимаю… Чем больше кадров, тем больше шанс на удачу. Потом прошу разрешения и фотографирую бородатого старца с радостной улыбкой религиозного человека и хитрыми глазами. Еще, еще портрет…
Веселый пейсатый хасид абсолютно не возражает против моего щелканья аппаратом. Он беседует со случайным попутчиком в вязаной шапке, джинсах и майке. Невероятная удача! Оба безразличны ко мне и моей съемке, как летящие струи воды, как далекие силуэты в арке. Я тороплюсь, меняю объективы и снимаю, снимаю… Чем больше кадров, тем больше шанс на удачу. Потом прошу разрешения и фотографирую бородатого старца с радостной улыбкой религиозного человека и хитрыми глазами. Еще, еще портрет…
Симпатичный гей с ямочками на щеках зовет нас на посадку и первым проходит в самолет, чтобы помогать в салоне. Билеты проверяют милые – и да! – длинноногие стюардессы.
Затор. Не верю глазам. Пожилой с палочкой еврей с бледным, явно больным лицом остановился в проходе, медленно устраивая свои вещи под сиденьем. За его спиной другой старик напирает и возмущенно пыхтит. Первый с палочкой злится и нарочно делает все еще медленнее. Второй пускает слюну и пихает его плечом. Бледный неловко отпихивает его обратно, моментально багровеет и заявляет, что он вообще больше не двинется с места. Старик в проходе тоже багровеет и принимает боевую позу. Они рассвирепели не на шутку, два старых, прошедших жизнь человека, наверняка потерявших близких, наверняка помнивших о погромах и войне.
У стюарда от испуга исчезают милые ямочки и округляются глаза. Он втискивается между борцами, успокаивает их не столько словами, сколько изумленными всхлипами, подталкивает одного в кресло, протискивает другого сквозь проход, воюющие стороны обмениваются последним презрением, инцидент закончен. «Unbelievable», – восклицает стюард, возвращая ямочки, всплескивая руками и снова улыбаясь. «Un-fucking-believable» , – грустно подтверждаю я.
Пожилой рабби, которого я снимал, оказался через проход чуть наискосок от меня. Мы давно разговариваем. Он умница, рассуждает о подходе Фрейда к психоанализу и о том, как это перекликается с учением Торы. Расспрашивает меня о фотографии, о моем прошлом. Прекрасно осведомлен об истории и событиях тех мест, откуда я родом. Красивый, как модель, стюард…деса? или стюард? прерывает нас покачиванием бедер. Начинают разносить еду. У него короткая стрижка рыжих волос, чуть подведенные глаза, стройный тонкий силуэт. Ему помогает черная девица с завитыми волосами. Она раздает кошерную еду религиозным евреям, мурлыча рождественскую песенку, что-то про «Holy Christmas». Каким-то образом наш разговор зашел о грехе. «У нас, – разъясняет рабби с особенно карикатурным в английском языке еврейским акцентом, поглядывая на меня в щель между тачкой с едой и бедрами рыжеволосого красавца, – у нас, – говорит он, – совершенно другое об этом представление! Христиане твердят: ой, грешники, грешники, а мы думаем, ну да, человек-таки сделал что-то не то, а, скажите, кто не делает? Нет греховных душ, нет отпущений грехов, есть развитие человека, перед Ним никто не безнадежен…» Но тут перед нами ложатся подносы с упакованными салатами и грудинкой цыпленка – одной кошерной, другой не очень, – и разговор о духовном вежливо прерывается. Цыпленок, увы, безнадежен. Я прошу вина.
 На фоне белой пены фонтана в арке силуэт инвалидной коляски. В ней, кажется, пожилая женщина. Растопыренные тени искаженных болезнью пальцев. Позади коляски – фигура девушки, к ним подбегает и убегает мальчишка. Я подкрадываюсь, бессовестно снимая чужую жизнь, все ближе и ближе, в самый проем арки, упираю фотоаппарат в стену, чтобы не размазать кадр при слабом свете, для жесткости широко расставляю ноги, как это делал мой друг фотограф, и слышу издалека из темноты треск чьей-то камеры. Теперь я сам – силуэт. Наплевать. Я снимаю. Еще, еще…
На фоне белой пены фонтана в арке силуэт инвалидной коляски. В ней, кажется, пожилая женщина. Растопыренные тени искаженных болезнью пальцев. Позади коляски – фигура девушки, к ним подбегает и убегает мальчишка. Я подкрадываюсь, бессовестно снимая чужую жизнь, все ближе и ближе, в самый проем арки, упираю фотоаппарат в стену, чтобы не размазать кадр при слабом свете, для жесткости широко расставляю ноги, как это делал мой друг фотограф, и слышу издалека из темноты треск чьей-то камеры. Теперь я сам – силуэт. Наплевать. Я снимаю. Еще, еще…
 Мы где-то над Грецией. Пилот объявляет, что срочно необходим доктор, просит о помощи, если такой найдется среди пассажиров. Народ толпится за моей спиной. Оборачиваюсь. Тот самый пожилой воитель за место в проходе с бледным лицом и палочкой умирает. Теперь щеки у него свинцово-серые. Вокруг толпятся хасиды, один из них врач, другие читают молитвы. Торопливо протискивается стюардесса с кислородной маской. Еще один врач, тоже в кипе и со стетоскопом, слушает его пульс и копается в сумке с его лекарствами. Они разжимают бедняге зубы и вливают какие-то капли, начинают массаж сердца. Хасиды раскачиваются в молитве. Никто не паникует, кроме, кажется, меня, хоть я стараюсь не подать виду. Пытаюсь объяснить кому-то, что у меня есть валидол. Стюард с печальными ямочками непрерывно держит телефонную трубку у уха, говорит с пилотом. Похоже, докладывает обстановку на случай срочной посадки. Рабби улыбается, совершенно спокоен. Больной приоткрывает глаза, ему чуть лучше. Пилот просит всех, кроме врачей, освободить проходы, пора снова разносить еду и напитки. Хасиды весело расходятся по местам. Мы летим в Тель-Авив.
Мы где-то над Грецией. Пилот объявляет, что срочно необходим доктор, просит о помощи, если такой найдется среди пассажиров. Народ толпится за моей спиной. Оборачиваюсь. Тот самый пожилой воитель за место в проходе с бледным лицом и палочкой умирает. Теперь щеки у него свинцово-серые. Вокруг толпятся хасиды, один из них врач, другие читают молитвы. Торопливо протискивается стюардесса с кислородной маской. Еще один врач, тоже в кипе и со стетоскопом, слушает его пульс и копается в сумке с его лекарствами. Они разжимают бедняге зубы и вливают какие-то капли, начинают массаж сердца. Хасиды раскачиваются в молитве. Никто не паникует, кроме, кажется, меня, хоть я стараюсь не подать виду. Пытаюсь объяснить кому-то, что у меня есть валидол. Стюард с печальными ямочками непрерывно держит телефонную трубку у уха, говорит с пилотом. Похоже, докладывает обстановку на случай срочной посадки. Рабби улыбается, совершенно спокоен. Больной приоткрывает глаза, ему чуть лучше. Пилот просит всех, кроме врачей, освободить проходы, пора снова разносить еду и напитки. Хасиды весело расходятся по местам. Мы летим в Тель-Авив.
«Не надо, – говорит мне мой друг-фотограф, – не снимай это». Поздно. Женщина в инвалидной коляске, девушка за ее спиной, уродливо растопыренная рука схвачены, украдены, спрятаны в пластиковой коробке моей камеры.
 Аплодисменты при посадке. Пилот просит никого не вставать, пока медики не займутся больным. Обычно непоседливые пассажиры израильских рейсов на этот раз не шелохнутся. Больного осторожно проводят несколько шагов, усаживают в кресло бизнес-класса. И тогда люди начинают двигаться. Проходя мимо, из-за спин врачей вижу его голый толстый живот и грудь. Завтра я его забуду. Или нет? Черт, я же забыл бутылку коньяка, которую купил в duty free в Нью-Йорке! Протискиваюсь обратно, навстречу потоку недовольных пассажиров, извините, извините, вот она, моя бутылка, все, теперь можно уходить.
Аплодисменты при посадке. Пилот просит никого не вставать, пока медики не займутся больным. Обычно непоседливые пассажиры израильских рейсов на этот раз не шелохнутся. Больного осторожно проводят несколько шагов, усаживают в кресло бизнес-класса. И тогда люди начинают двигаться. Проходя мимо, из-за спин врачей вижу его голый толстый живот и грудь. Завтра я его забуду. Или нет? Черт, я же забыл бутылку коньяка, которую купил в duty free в Нью-Йорке! Протискиваюсь обратно, навстречу потоку недовольных пассажиров, извините, извините, вот она, моя бутылка, все, теперь можно уходить.
Конец февраля – весна. Между рядами кряжистых старых масличных деревьев с уродливо скрюченными стволами, с расстопыренными, как пальцы старухи, ветвями – ковер фиолетовых нежных цветов. Если оставить машину, спуститься с обочины, то можно увидеть среди них полураскрытый, как губы, ждущий мак. Тогда надо только лечь на траву, прижаться телом к цветам, почувствовать, как они замирают под несущимся сердцем, а затем осторожно, чтобы не спугнуть, прикоснуться щекой и губами, ресницами, ноющим лбом и языком к алым лепесткам.