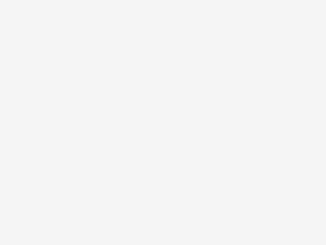Актриса Мария Смольникова – королева сцены. Ей подвластны все жанры, она вызывает восхищение своим талантом. Она умна, обаятельна, доброжелательна. Она благодарна педагогам, с любовью говорит о режиссере и хочет найти свой путь в кино. Мария Смольникова – о спектакле «Все тут», Крымове, «диалогах с прошлым и настоящим» и о том, как «личное становится общим».
Актриса Мария Смольникова – королева сцены. Ей подвластны все жанры, она вызывает восхищение своим талантом. Она умна, обаятельна, доброжелательна. Она благодарна педагогам, с любовью говорит о режиссере и хочет найти свой путь в кино. Мария Смольникова – о спектакле «Все тут», Крымове, «диалогах с прошлым и настоящим» и о том, как «личное становится общим».
– Совсем скоро нас ждет международная премьера киноверсии спектакля Дмитрия Крымова «Все тут». Премьера спектакля состоялась в Московском театре «Школа современной пьесы» 10 октября 2020 года – в день рождения режиссера и в разгар пандемии. Как это стало возможно?
– Сама не знаю. Чудо какое-то. Произошло это благодаря театру «Школа современной пьесы». Пик пандемии пришелся на весну-лето 2020 года, потом все стало открываться, и театр быстро взялся за дело. Мы репетировали еще до локдауна и успели выпустить спектакль в короткий промежуток «оттепели».
– Вы играете в спектакле две роли. Первая – легендарная завлит Эфроса Нонна Михайловна Скегина. Кстати, как правильно ставить ударение в фамилии Анатолия Васильевича? В спектакле ударение на второй слог – ЭфрОс.
– Это до конца непонятно. Нонна Михайловна ставила ударение на втором слоге, поэтому в спектакле звучит “ЭфрОс”. В моем окружении все говорят «Эфрос» с ударением на первый слог. У Дмитрия Анатольевича нет категоричности в этом вопросе. Меня он не поправлял.
– Вы помните вашу первую реакцию, когда Дмитрий Анатольевич предложил вам роль Скегиной? Это было неожиданно для вас?
– Для меня неожиданны все роли, которые предлагает мне Дмитрий Анатольевич. Конечно, был определенный страх: «воскресить» Нонну Михайловну Скегину. Я пыталась перенять ее образ голосом и визуально.
– В вашем исполнении Нонна Михайловна вызывает огромную симпатию. Я читал, что она была женщиной очень умной, волевой и целеустремленной. С ней было непросто, с ней нередко спорили и родители Дмитрия Анатольевича, и сам он… Что Крымов рассказывал вам о ней? Какими воспоминаниями делился?
 – Она была парадоксальной и удивительной личностью. Дмитрий Анатольевич больше говорил о ее характере и о том, о чем ходят легенды, – например, как она талантливо материлась. На меня большое впечатление произвело то, что она была сиротой. О каких-то личных вещах не хочется рассказывать. Может быть, что-то попозже всплывет в мемуарах, а говорить об этом сейчас, наверно, неправильно. В спектакле о ней маленький кусочек. Это воспоминание, чувственный образ.
– Она была парадоксальной и удивительной личностью. Дмитрий Анатольевич больше говорил о ее характере и о том, о чем ходят легенды, – например, как она талантливо материлась. На меня большое впечатление произвело то, что она была сиротой. О каких-то личных вещах не хочется рассказывать. Может быть, что-то попозже всплывет в мемуарах, а говорить об этом сейчас, наверно, неправильно. В спектакле о ней маленький кусочек. Это воспоминание, чувственный образ.
– Как возникла цитата из Льва Рубинштейна «По разным странам я бродил И мой сурок со мною, И весел я, и счастлив был, И мой сурок со мною!»?
– От любви Дмитрия Анатольевича к Леве, из области, когда не можешь подобрать слова, а выразить чувства тебе помогают поэт и поэзия. Рубинштейн написал для нас текст «Последние вопросы» к спектаклю «Сережа». Лева на него и на меня производит какое-то невероятное эмоциональное впечатление.
– Спектакль «Все тут» – о Крымове, его родителях, его воспоминаниях. Почему в титрах режиссер прячется за слово «Ведущий»? Если Ведущий говорит «мама» и «папа», почему не назвать его тем, кто он есть, – не Ведущим, а Крымовым?
– Такие вопросы возникали на репетициях. Это спектакль о памяти. У всех есть память по прошлому, родители, бабушка с дедушкой; у всех есть свои воспоминания. Конечно, особое впечатление спектакль производит на тех, кто лично знал этих людей, был знаком с их творчеством, смотрел невероятно интересные передачи Крымовой или спектакли Эфроса. Но не все обязаны знать, кто такие Эфрос и Крымова. При всей конкретности персонажа у нас есть надежда, что спектакль будет понятен каждому. Личное в спектакле становится общим.
– Мне кажется, кресло дедушки Анатолия Ивановича с вырезанной на ножке аббревиатурой ВКПБ – это же «дорогой, многоуважаемый шкаф» из монолога Гаева в «Вишневом саде». Так и задумывалось?
 – Я не помню, чтобы мы об этом говорили, но, конечно, перекличка считывается. У Дмитрия Анатольевича весь багаж ассоциаций, они живут, переплетаются между собой и рождают новые смыслы. Диалоги с прошлым и настоящим, попытка дотянуться до будущего… Даже если он нам не объясняет, то это заложено в тексте и потом раскрывается в спектакле. Вот вы сейчас сказали про шкаф. Действительно, в его жизни роль шкафа выполняло кресло. У каждого есть символы, свидетели нашей жизни. Мимо них проходишь, а потом оказывается, как много значат они для нас.
– Я не помню, чтобы мы об этом говорили, но, конечно, перекличка считывается. У Дмитрия Анатольевича весь багаж ассоциаций, они живут, переплетаются между собой и рождают новые смыслы. Диалоги с прошлым и настоящим, попытка дотянуться до будущего… Даже если он нам не объясняет, то это заложено в тексте и потом раскрывается в спектакле. Вот вы сейчас сказали про шкаф. Действительно, в его жизни роль шкафа выполняло кресло. У каждого есть символы, свидетели нашей жизни. Мимо них проходишь, а потом оказывается, как много значат они для нас.
– Чехов писал: «Много разговоров о театре, мало действия и пять пудов любви». Это то, что я вижу в спектакле. Перекличка с Чеховым чувствуется с самого начала…
– Да, потому что Торнтон Уайлдер – это ведь своего рода американский Чехов, а для Дмитрия Анатольевича Чехов – очень важный драматург.
– Какая печальная параллель: Нонна Михайловна рассказывает, как Эфрос «лишился единственного своего театра и больше никогда его не обрел». Так ведь и сам Дмитрий Анатольевич лишился своей «Школы драматического искусства» и кочует сегодня по разным сценам. Вы чувствовали горечь Крымова, когда репетировали, или он это в себе преодолел?
– Горечь, конечно, присутствует. Я сама до сих пор горюю об этой потере. При всей величине таланта Эфроса, его успехе и востребованности он остался без театра. И Дмитрий Анатольевич, будучи одним из первых режиссеров в Москве и России, остается без театра и места. Конечно, надо идти дальше, и Дмитрий Анатольевич не собирается останавливаться, создавая театр там, где он есть. Cпектакль «Все тут» – лишнее тому подтверждение. Он создан на основе реальной жизни, которая болит, меняется, движется и совершенно несправедлива. Отсюда сцена, которую он мечтал поставить в «Школе драматического искусства», – фрагмент из третьего детского спектакля «Остров Сахалин».
– «Последняя недосказка», как говорит Ведущий…
 – Это действительно чудо и волшебство, и восстановление справедливости, что он дал жизнь невоплощенному спектаклю. Пусть в другом месте и в другом спектакле, но жизнь проросла. В этом есть какая-то мудрость. Откуда вдруг встреча Соньки Золотой Ручки и Чехова, почему? Понятно, что это предположение…
– Это действительно чудо и волшебство, и восстановление справедливости, что он дал жизнь невоплощенному спектаклю. Пусть в другом месте и в другом спектакле, но жизнь проросла. В этом есть какая-то мудрость. Откуда вдруг встреча Соньки Золотой Ручки и Чехова, почему? Понятно, что это предположение…
– Замечу, вполне вероятное. До поездки на Сахалин у Чехова пьес не было, а после он стал их писать. Чеховедам не пришло в голову, что благодарить надо Соньку Золотую Ручку… Говорят, для роли Соньки вы учились блатному жаргону. У кого?
– Дмитрий Анатольевич нашел человека, который даже издал словарь блатного жаргона. Его зовут Заур. Дмитрий Анатольевич написал текст из цитат Чехова и попросил перевести на жаргон. Этот человек меня учил, объяснял перевод слов. Интересные разговоры мы с ним вели. Он сказал, что Сонька Золотая Ручка – багдадка, то есть королева, королева воров. Это статус, и она это внутренне понимает.
– Она еще и актриса. Меня абсолютно пленил переход от прозы жизни к песне Мишеля Эмера и Эдит Пиаф «Аккордеонист». Как это было придумано?
– На репетиции. Была задумка, что текст на лагерной фене перемежается с обычным. Один большой монолог был составлен из цитат чеховских персонажей. Мы решали, какой кусочек на фене сделать, какой оставить без изменений. Сонька Золотая Ручка – удивительный персонаж. Много языков знала и музыку любила, и петь умела. Мы хотели это показать, и так родилась песня Пиаф.
– Остается только порадоваться, что Дмитрий Анатольевич отказался ставить «Наш городок» в Америке, а мысли об этом романе переросли в воспоминания о спектакле Алана Шнайдера в Arena Stage, и все это привело к рождению спектакля «Все тут». А ведь могло все случиться иначе – поставил бы он «Наш городок» где-нибудь в Нью-Йорке или в Чикаго, и не было бы прелестного московского спектакля…
– Да, спектакль живет. Мы его играем второй год каждый месяц по три-четыре раза.
– Про вас говорят, что вы – «крымовская актриса». Что это значит – быть актрисой театра Крымова?
– Мы много вместе работали и продолжаем работать. У нас похожие взгляды на театр и, может быть, на жизнь. Я чувствую, что именно работа с Крымовым и то, что я создаю, для меня и есть настоящий театр. Это искусство, в котором я сталкиваюсь с чем-то трудным, неопознанным, преодолеваю себя, двигаюсь и развиваюсь. С Крымовым интересно.
– Спорить с Крымовым можно?
– Можно не соглашаться, предлагать разные варианты?
– Конечно. Если я вижу другие варианты, он даст попробовать. Если я его убеждаю, он скажет «да». Он легко признает, если чувствует, что так точнее. Он не держится за свои придумки, если видит, что это не подходит актеру и, соответственно, спектаклю. Он легко отказывается от этого и пробует что-то другое. На репетициях он рассказывает и очень много показывает.
– Для меня спектакли Крымова – чистый модернизм по форме и чистая лирика по содержанию. Как он этого добивается? С чего начинаются его репетиции?
– На первом блоке репетиций он выстраивает каркас. Я сразу не могла это понять и привыкнуть. Мне было обидно, что меня используют, как манекен или куклу. Иди сюда, посиди здесь, посмотри туда, скажи тут… В это время он к макету целую канву пристраивает, и как я сейчас играю, как говорю, нашла ли интонацию, для него не важно. А для меня это очень важно. Я чувствую, что вру, и мучаюсь, а ему все равно, и это было поначалу очень обидно. Дмитрий Анатольевич может где-то колко пошутить, и не нужно это принимать на свой счет. Потом понимаешь: каждый начинает с того, что параллельно делает свою работу, а в процессе репетиций все объединяется.
– С 2008 года вы – актриса театра “Школа драматического искусства”. С 2018 года – вместе с Крымовым в “свободном полете”.
– Нет, я ушла спустя два года после него. Пыталась с театром договориться, но потом поняла, что это бессмысленно.
– После ухода Крымова это уже другой театр? Крымовских спектаклей не осталось?
– Кажется, осталось четыре спектакля. Многие были закрыты, некоторые под разными предлогами просто не ставятся. К сожалению, театр выбрал позицию НЕ ценить Крымова и НЕ помогать ему. Остается только уйти… Я ушла в «Школу современной пьесы», а сейчас пришлось уйти и из этого театра. Нужно как-то зарабатывать на жилье, а заработать можно только снимаясь в кино. Будучи в театре, посвящая ему много времени, ты не можешь физически участвовать в кинопроектах. Для меня это маленькая трагедия. Я встаю на какой-то новый путь и не знаю, чем все закончится.
– Предположим, находится меценат и говорит: «Завтра создаем новый театр». Кого возьмете с собой?
– Вокруг нас полно талантливых артистов. Есть новые студенты, педагоги, с которыми хочется работать. Есть кого позвать. Сейчас не так много пространства для молодежи. Выпускаются талантливые режиссеры, а актер попробуй пробейся! В новом пространстве я бы создала детские студии, кружки, мы бы выкупили у «Школы драматического искусства» потрясающие, мои любимые детские спектакли Дмитрия Анатольевича. Он настолько плодовит, что его хватало бы и на свой театр, и на независимые театральные проекты. Он бы приходил к нам, что-то корректировал, кого-то звал на свои проекты. Это было бы возможно, я в это почему-то верю. Я всегда мечтала, что у меня будет свой театр, команда, где мы друг друга уже настолько знаем, что над минусами можем открыто иронизировать, где можно доверять друг другу… У нас была такая группа, а потом она, к сожалению, распалась.
– Еще одну премьеру Крымова – «Вишневый сад» – в апреле мы увидим в Филадельфии, в Wilma Theater… Как вы относитесь к кинопоказам спектаклей? Многие говорят, что в кино исчезает дух живого театра.
 – Я сначала скептически к этому относилась и даже стеснялась. Но сейчас прекрасно снимают, и возникает иллюзия театра. Я как-то была на кинопоказе американского спектакля, и увидела, как замечательно играют американские артисты. Я считаю, это прекрасная возможность. Особенно в наше время, когда ездить стало нелегко. Мне кажется, это очень хороший шаг.
– Я сначала скептически к этому относилась и даже стеснялась. Но сейчас прекрасно снимают, и возникает иллюзия театра. Я как-то была на кинопоказе американского спектакля, и увидела, как замечательно играют американские артисты. Я считаю, это прекрасная возможность. Особенно в наше время, когда ездить стало нелегко. Мне кажется, это очень хороший шаг.
– Для любителей театра во всем мире это единственная возможность увидеть ваше творчество… Кстати, киноверсия спектакля «Все тут» отличного качества. Маша, вы в Америке были?
– Да, ездила с Дмитрием Анатольевичем лет пять назад, когда он начал преподавать в Йельском университете. Он позвал Валю Останькович – его художницу с курса – и меня. Мы ему помогали.
– Представьте себе, вы США на премьере киноверсии спектакля «Все тут». Что скажете зрителям перед началом сеанса?
– Хочется сразу подробнее рассказать о спектакле, режиссере, об этих людях. С другой стороны, может быть не надо ничего говорить? Зачем слова, если сейчас погаснет свет и начнется спектакль…
В Хьюстоне киноверсия спектакля «Все тут» демонстрируется 28 марта в 7:30 вечера в Культурном центре «Наш Техас» (2337 Bissonnet, 77005). Билеты – на сайте https://ourtx.org. Все новости о проекте Stage Russia – на сайте www.stagerussia.com.